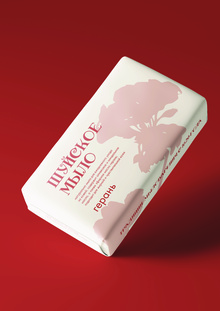Сакральные ветра: Духовные мотивы в монгольском киноискусстве
На бескрайних просторах Монголии, где древние духи переплетаются с современными реалиями, кинематограф становится средством для отражения пересечения духовного наследия и современной жизни. Эта работа исследует, как кинематографисты преодолевают непростой путь между сохранением священных традиций и решением сложных задач быстро меняющегося мира.
Современные монгольские кинематографисты, такие как Бямбасурэн Даваа, Лхагвадулам Пурэв-Очир и Золяргал Пурэвдаш, разработали кинематографический подход, который выходит за рамки простого документирования духовных практик. Их работы создают сложный диалог между традиционным духовным мировоззрением и современными социальными реалиями. Благодаря тщательному анализу фильмов, снятых в период с 2004 по 2024 год (полный список просмотренных фильмов можно посмотреть по ссылке), данное исследование показывает, как монгольское кино эволюционировало от этнографической документации до сложного духовного повествования, которое обращается к универсальным темам через отчетливо монгольскую призму.

«Две лошади Чингисхана» (2009, реж. Бямбасурен Даваа)
Духовные элементы в этих фильмах проявляются через различные взаимосвязанные измерения: сакральная география монгольского ландшафта, духовное значение отношений между людьми и животными, роль традиционной музыки в духовном самовыражении и передача духовных знаний от поколения к поколению. Эти элементы являются не просто фоновыми характеристиками, а фундаментальными компонентами, формирующими структуру повествования и визуальные композиции.
Центральное место в этом анализе занимает понимание того, что монгольское духовное кино функционирует в уникальном культурном контексте, где границы между священным и светским, традиционным и современным остаются подвижными и обсуждаемыми. Эта текучесть позволяет кинематографистам исследовать современные проблемы, сохраняя при этом глубокую связь с духовными традициями, которые формировали монгольскую культуру на протяжении долгих тысячелетий.
«Для меня фильм — это нечто, что постоянно растет, умирает и возрождается. Самое приятное в кинематографе — это способность запечатлеть трансформацию. Думаю, это невозможно сделать с помощью другого вида искусства», — Лхагвадулам Пурэв-Очир.
В первой части визуального исследования особое внимание в исследовании уделяется тому, как эти фильмы отражают сложные взаимоотношения между людьми и окружающей средой, как природной, так и духовной. Огромный монгольский ландшафт с его степями, горами и пустынями служит не просто фоном, а живым существом, которое влияет на духовные повествования и формирует их. Эта связь особенно очевидна в фильмах, исследующих жизнь кочевников, где физическая среда становится неотделимой от духовной практики.
Но как же эта кочевая реальность существует в условиях все более урбанизированного и глобализированного мира? Во второй части визуального исследования я задаюсь вопросом, как монгольские кинематографисты отражают столкновение древних духовных традиций с современной реальностью, и как эти сложные практики адаптируются, сохраняя при этом свою глубинную сущность.
Священное пространство кочевых народов
В монгольской космологии пространство никогда не бывает нейтральным. Вечное голубое небо (Тенгри) наблюдает за священной землей (Газар), в горах обитают духи-хранители, а реки несут воду и молитвы. Эта глубокая духовная география, где каждый камень, ручей и поток ветра потенциально таят в себе божественное присутствие, формировала монгольское сознание на протяжении тысячелетий. Современное монгольское кино наследует эту богатую космологическую традицию, переводя ее на визуальный язык, который говорит как о древних верованиях, так и о современных реалиях.
В традиционном монгольском сознании человек не отделен от священного ландшафта, а вплетен в его ткань через ритуал, уважение и повседневную практику. Кочевой образ жизни — далеко не просто практическая адаптация к требованиям ландшафта — представляет собой духовную практику постоянного взаимодействия с сакральным пространством. Это понимание в корне определяет отношение монгольских кинематографистов к ландшафту.
«История плачущего верблюда» (2004, реж. Бямбасурен Даваа)
В фильме «История плачущего верблюда» Бямбасурен Даваа закладывает фундаментальный визуальный язык, который будет характеризовать большую часть подхода современного монгольского кино к сакральной географии. Часто композиция намеренно минимизирует присутствие человека — просторы Гоби простираются до самого горизонта, нарушаемые лишь двумя маленькими фигурами — человека и верблюда, — перемещающимися по ландшафту. Такое расположение говорит о фундаментальных отношениях между бытием и пространством в монгольской духовной традиции. Однако это не романтическое преуменьшение значимости человека, а скорее тщательно выстроенное визуальное представление традиционного монгольского понимания места человека в священном пространстве.
«История плачущего верблюда» (2004, реж. Бямбасурен Даваа)
Особое значение имеет использование режиссером рассветного света. Постепенное освещение пейзажа создает то, что можно назвать визуальной иерофанией — проявление сакрального в физической форме. Горизонтальные лучи солнечного света физически демонстрируют встречу Тенгри (небо) и Газара (земля) — ежедневное воссоздание первичных духовных отношений в древней монгольской космологии.


«Пещера желтого пса» (2005, реж. Бямбасурен Даваа)
В фильме «Пещера желтой собаки» (2005) Даваа развивает этот визуальный подход к сакральной географии. Акт созерцания облаков становится моментом соединения земного и небесного царств, значимым во многих традициях, но особенно резонансным в монгольской культуре, где голубое небо (Кёке Тенгри) имеет огромное духовное значение. Дети, лежащие на траве и смотрящие вверх, создают буквальный и метафорический порог между землей и небом, где их воображаемое видение животных и фигур в облаках представляет собой чистую форму духовного восприятия, сродни уже упомянутой «иерофании» — проявлению священного в обыденном.


«Пещера желтого пса» (2005, реж. Бямбасурен Даваа) Слева: Слон / Справа: Жираф
«Пещера желтого пса» (2005, реж. Бямбасурен Даваа)
Конкретные образы, которые видят дети, — верблюд, лошадь, слон и жираф — связывают их непосредственный мир (верблюды и лошади, распространенные в Монголии) с далекими мирами (слоны и жирафы), подсказывая, как сакральное пространство может соединить привычное с таинственным, местное с универсальным.
Этот момент воплощает то, что философ Мирча Элиаде назвал бы «разрывом в однородности пространства» — когда обычное пространство становится необычным через восприятие священного смысла, даже если этот смысл приходит через глаза играющих детей.
«Пещера желтого пса» (2005, реж. Бямбасурен Даваа)
Фильм показывает, как игровые пространства детей становятся священными благодаря их воображению и невинному восприятию. Помимо сцены созерцания облаков, другие моменты, когда дети взаимодействуют с природой — собирают навоз, играют с камнями или изучают традиционные игры — демонстрируют, как обычные действия могут создавать временные священные пространства посредством чистого восприятия детей, отражая буддийские концепции о священном потенциале повседневных действий.
«Хадак» (2006, реж. Петер Бросенс, Джессика Хоуп Вудворт)
В «Хадаке» священные пространства становятся мощными катализаторами духовного пробуждения главного героя. В фильме представлен впечатляющий визуальный ряд овоо, традиционной священной пирамиды из камней, украшенной яркими синими шарфами-хадагами, развевающимися на зимнем ветру, которые являются свидетельством многовековых монгольских религиозных традиций. Расположенный на фоне суровых, покрытых снегом степей, этот священный памятник служит не просто символом священной земли — он представляет собой хрупкий порог между физическим и духовным царствами, где кочевники традиционно совершают ритуалы в честь духов земли и своих предков.
«Хадак» (2006, реж. Петер Бросенс, Джессика Хоуп Вудворт)
Присутствие хадага (церемониальных синих шелковых шарфов) служит важным визуальным символом духовных традиций монголов и прочной связи между народом и верованиями его предков. Когда эти синие молитвенные шарфы появляются на священных деревьях на протяжении всего фильма, они представляют собой как физическое проявление молитв, так и мост между материальным и духовным мирами. Для главного героя Баги, который пытается смириться со своим шаманским призванием, эти украшенные хадагами деревья служат «духовными якорями» в ландшафте, обозначая места силы и религиозного значения.
«Хадак» (2006, реж. Петер Бросенс, Джессика Хоуп Вудворт)
Синий цвет хадага имеет особое значение в монгольской культуре, символизируя вечное голубое небо (Тенгри) и божественное начало. В контексте более широкой темы фильма о сохранении культуры в условиях модернизации эти украшенные священные деревья с развевающимися голубыми шарфами становятся трогательными символами сопротивления разрушению традиционных духовных практик, создавая визуальный контрапункт промышленному развитию, угрожающему традиционному образу жизни.
Символизм животных и шаманские традиции
«Пещера желтого пса» (2005, реж. Бямбасурен Даваа)
В ранее упомянутой «Пещере желтой собаки» Бямбасурена Даваа знакомит нас понятиями тотемизма через историю молодой девочки Нансал и дикой собаки, которую она находит в пещере. Фильм переплетает буддийскую философию с традиционными монгольскими верованиями, представляя собаку не просто как компаньона, но как духовную сущность — проявление защитных духов, известных как «сюлд» в монгольской традиции.


«Пещера желтого пса» (2005, реж. Бямбасурен Даваа)
Духовное значение находки Нансал выходит за рамки простого совпадения, так как она перекликается с древней монгольской легендой, передаваемой из поколения в поколение в степях к западу от Улан-Батора (в фильме о ней рассказывает бабуля, к которой случайно попадает главная героиня Нансал в поисках как раз собаки во время непогоды).
Известная как «Легенда о желтой собаке», эта история повествует о дочери богатой семьи и ее верном желтом псе, чье присутствие необъяснимым образом переплелось с ее судьбой. Как рассказывают старейшины региона, преданность собаки молодой женщине была настолько сильной, что она нечаянно помешала ей соединиться со своей настоящей любовью, скромным плотником. Только когда собаку спрятали в пещере, следуя загадочному совету мудреца, естественный ход любви и жизни смог продолжиться, что завершилось таинственным исчезновением собаки и рождением ребенка пары, который, по мнению многих, является реинкарнированной душой собаки.
«Пещера желтого пса» (2005, реж. Бямбасурен Даваа)
Первоначальное нежелание отца Нансал держать собаку, опасаясь, что она может привлечь волков к их стаду, создает острое напряжение между практической кочевой мудростью и духовным пробуждением. В конечном итоге, это раскрывает, как эти, казалось бы, противоположные силы сосуществуют в монгольской пастушеской жизни. В конце концов, выясняется, что собака на самом деле защищает семью от стервятников и волков, что будет показано в одной из последних сцен фильма.
«Пещера желтого пса» (2005, реж. Бямбасурен Даваа)
«Желтый Жеребенок» (2013, реж. Хоролдорж Чойованчиг)
Духовное значение животных раскрывается в новом свете в фильме «Желтый жеребенок», где фокус смещается на мистическую связь между кочевниками и лошадьми. Фильм исследует, как лошади, в частности титулованный желтый жеребенок, воплощают духов предков и служат проводниками в жизненных переходах. В монгольской традиции считается, что лошади переносят души предков, выступая посредниками между миром людей и царством духов.
«Желтый Жеребенок» (2013, реж. Хоролдорж Чойованчиг)
В фильме рассказывается история Галта, физически хрупкого мальчика, чье возвращение в семью после смерти дяди отражает древние модели перемещения и возвращения домой в кочевой культуре. Таинственный желтый жеребенок, появившийся перед престижной гонкой Наадам, отражает монгольскую веру в божественное время, где духовные животные проявляются именно тогда, когда их руководство больше всего необходимо. Благодаря их общему путешествию к гонке, несмотря на первоначальные протесты его отца, Галт и жеребенок выковывают связь, воплощающую традиционное понимание лошадей как медиаторов трансформации. Исключительная скорость и природный талант жеребенка помогают Галту обнаружить свою собственную внутреннюю силу и место в своем сообществе.
«Желтый Жеребенок» (2013, реж. Хоролдорж Чойованчиг)

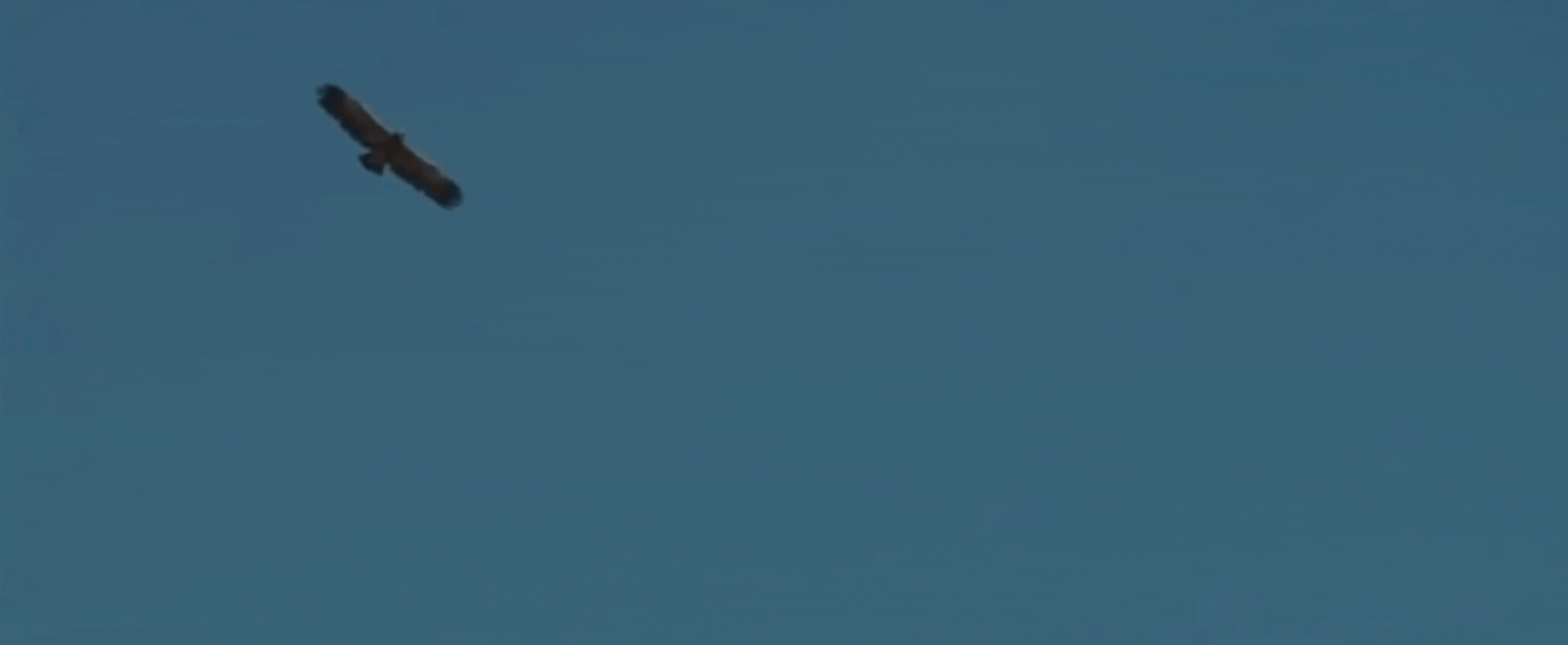
«Дистанционное управление» (2013, реж. Бьямба Сакхья)
«Дистанционное управление» Бьямбы Сакхьи передает духовный сдвиг уже в городской Монголии через уединенные наблюдения главного героя с городских крыш. Сила фильма заключается в его тонкой трансформации традиционных практик наблюдения — где молодой человек становится городским наблюдателем, осматривая как город внизу, так и небо над собой с помощью своего бинокля. Этот акт отражает древние практики наблюдения за орлами и духовного наблюдения, но реконтекстуализирует их в уже урбанизированном ландшафте Улан-Батора.
«Дистанционное управление» (2013, реж. Бьямба Сакхья)
Двойное наблюдение главного героя — как за природным миром наверху, так и за опосредованной реальностью через телевизионные экраны и спутниковые антенны. Этот акт трансформирует традиционные шаманские практики наблюдения и чтения сообщений от птиц в современный ритуал, где электромагнитные волны и спутниковые сигналы становятся новыми посредниками между мирами. Главный герой появляется как современный шаман в бетонном ландшафте Улан-Батора, интерпретируя значение не только из природы, но и из цифрового мира, который теперь занимает священное голубое небо Монголии, демонстрируя, как древние духовные практики адаптируются перед лицом урбанизации.
Музыкальное наследие как духовное выражение
В монгольской культуре считается, что физические вибрации традиционных инструментов и голоса резонируют с человеческим духом, облегчая связь с мудростью предков. Каждое выступление становится не просто декламацией, а ритуалом воспоминаний, в котором исполнитель передает коллективную память своего народа с помощью техник, передаваемых из поколения в поколение.
«Две лошади Чингисхана» (2009, реж. Бямбасурен Даваа)
Моринхур, или скрипка с лошадиной головой, является, пожалуй, самым главным символом этой музыкально-духовной связи. Ее характерный дизайн, увенчанный искусно вырезанной лошадиной головой, представляет собой нечто большее, чем просто украшение. Этот инструмент воплощает связь монгольского народа с лошадьми, степями и наследием кочевников. Две струны, традиционно изготовленные из конского волоса, создают звук, имитирующий ветер на лугах и клекот лошадей.
«Две лошади Чингисхана» (2009, реж. Бямбасурен Даваа)
История главной героини «Двух лошадей Чингисхина» Урны — это как раз глубокая связь с музыкальным и духовным наследием Монголии, начавшаяся с заветного воспоминания о ее бабушке, которая когда-то была знаменитой певицей на своей родине во Внутренней Монголии. В своем сердце она хранит последнее желание бабушки, глубоко переплетенное со сломанным моринхуром. «Бабушка, тоска охватывает мое сердце, когда я думаю о твоем старом моринхуре, разбитом, как наша родина, разделенном, как наш народ», — размышляет она, отправляясь в путешествие, которое соединит Внутреннюю и Внешнюю Монголию в поисках потерянных фрагментов уже позабытой песни, которой ей когда-то рассказывали в детстве.
«Две лошади Чингисхана» (2009, реж. Бямбасурен Даваа)
В своих поисках она руководствуется мудростью своей бабушки: «Певец никогда не забывает песню. Как только она начинает петь, память возвращается». Эта вера в неизменность музыкальной памяти становится ее компасом в поисках фрагментов древней песни. Слова, которые она постоянно перебирает, записывает в блокноте и в конце концов собирает целый пазл, затрагивают самую суть монгольской идентичности и надежду на воссоединение: «Два коня Чингисхана тоскуют по своему табуну, когда в горах растает снег, братья снова найдут дорогу домой». Эти слова несут в себе груз пророчества, обращаясь как к личной, так и к коллективной тоске по целостности народа.
Завершая свою поездку выступлением со струнным ансамблем в Улан-Баторе, она сталкивается с фундаментальным вопросом, который преследует ее на протяжении всего путешествия: должно ли старое быть разрушено ради нового, и оправдана ли эта потеря? Своим стремлением сохранить и исполнить эту древнюю песню Урна предлагает свой собственный ответ — убедительное подтверждение жизненной важности сохранения этих культурных и духовных связей, даже когда мир вокруг них преображается.
«Артерии мира» (2020, реж. Бямбасурен Даваа)
В «Артериях мира» музыка предстает как мощная сила, соединяющая личную трагедию и культурное сопротивление в истории двенадцатилетнего Амры и его отца Эрдэнэ. В фильме переплетаются мечты Амры об участии в телевизионном шоу талантов и борьба его отца против горнодобывающих компаний, уничтожающих земли их предков. Когда случается трагедия и Эрдэнэ погибает в результате несчастного случая после песенного конкурса, традиционный гимн о золоте, который отец и сын исполняли вместе, становится одновременно источником скорби и сопротивления.
Песня предков, предупреждающая, что «золото не приносит счастья, золото — это бесконечные страдания», приобретает глубокий смысл, поскольку отражает борьбу общины против горнодобывающих компаний, которые высушивают озера и разрушают их традиционный уклад жизни. По мере того как Амра и его община переживают потерю своего лидера и надвигающуюся угрозу экологической эксплуатации, песня становится призывом к объединению, отражающим их коллективную вину и решимость сохранить свои природные ресурсы и культурное наследие. Исполняя и сохраняя эту традиционную песню, община поддерживает свою духовную связь с горами и предками, ибо как говорил отец Амры: «Дух гор реален, если ты веришь в него».
В современное время песни кочевников становятся сосудами памяти, несущими в себе важные истины о реальной ценности Родины и часто выражающими несогласие с утратой и разрушением привычного образа жизни, связанного с древними устоями предков.
«Артерии мира» (2020, реж. Бямбасурен Даваа)
Возрождение и обновление в современности
Монгольская киноиндустрия находится на интересном перепутье, привлекая все большее внимание международного сообщества после долгих лет относительной безвестности. Тем не менее, она остается хрупким и развивающимся пространством, отмеченным неопределенностью и поиском идентичности. Многие фильмы, выходящие сегодня в Монголии, посвящены теме поиска — себя, дома, любви или цели. Эта озабоченность отражает не только личные путешествия режиссеров, но и более широкое культурное осмысление. В то время как монголы ориентируются в сложностях современной жизни, они пытаются примирить свои вековые традиции с быстро меняющимся миром. Такие режиссеры, как Бямбасурен Даваа и Лхагвадулам Пурэв-Очир, воплощают в себе это напряжение, возвращаясь домой после обучения за границей, чтобы исследовать свое наследие и современную реальность через кино.
«Нить судьбы» (2022, реж. Цяо Сисюэ)
Фильм «Нить судьбы» — это трогательное исследование связей между семьей, традициями и современностью, обрамленное историей Алуса, городского электронного музыканта, и его матери, страдающей деменцией. На фоне бескрайней, безмятежной монгольской степи фильм деликатно затрагивает темы культурной эволюции, личной идентичности и непреходящей тяги к корням предков. Постоянное желание матери вернуться «домой» становится эмоциональным и тематическим стержнем повествования, символизируя тоску по простоте и неразрывной связи с прошлым.
«Нить судьбы» (2022, реж. Цяо Сисюэ)
Ее настойчивое стремление вернуться «домой» выходит за рамки географии. Она ищет не просто физическую степь, а возвращение к жизни, не отмеченной отчуждением современности, — времени, когда традиции были нетронуты, а ритм жизни диктовался природой и обществом. Однако ее тоска несет в себе иронию: по мере того как ее память исчезает, разрушается и ее связь с этими самыми корнями, с историями и людьми, которые их определяли. Это противоречие отражает универсальный человеческий парадокс: желание удержать что-то, что время и обстоятельства неизбежно разрушают. Для Алуса тоска по матери, которая уже не помнит его, становится зеркалом, отражающим его собственную борьбу за примирение своей городской идентичности с традициями, которые воплощала мама.
«Нить судьбы» (2022, реж. Цяо Сисюэ)
Взаимодействие между Алусом и его матерью символизирует более широкий диалог между прошлым и настоящим, между традициями и современностью. Алус представляет новую монгольскую идентичность — ту, которая существует в городах, процветает под глобальным влиянием и чувствует себя все более далекой от кочевого образа жизни. Его мать, напротив, привязана к прошлому, представляя образ жизни, который одновременно прекрасен и хрупок, находясь на грани исчезновения. Их связь перерастает в копромисс: Алус учится видеть ценность в традициях, которыми дорожит его мать, а она, в моменты ясности, признает неизбежность перемен.


«Нить судьбы» (2022, реж. Цяо Сисюэ)
— Вас расстроила какая-то девушка? Разве она не любит вас?
— Она любит меня. Я верю, что она всегда будет любить меня. Она просто не помнит, кто я.
— Не волнуйтесь. Течение времени никогда не останавливается. Степные цветы не могут цвести вечно.
«Если бы я мог впасть в спячку» (2023, реж. Золяргал Пуревдаш)
Еще один фильм, исследующий контрасты, — «Если бы я мог впасть в спячку», представляющий собой глубоко личное и в то же время социально резонансное путешествие. 14-летний Ульзий, способный ученик, преуспевающий в математике и науке, берет на себя роль опекуна трех младших братьев и сестер после того, как их мать, Демберел, теряет способность справляться с трудностями. В то время как благодаря своим способностям Ульзий оказывается на грани получения престижной стипендии, которая может изменить его жизнь, его непосредственные задачи — поддерживать тепло в юрте, кормить братьев и сестер и добывать лекарства для больной Эркхемэ — ставят перед ним непреодолимые проблемы.
«Если бы я мог впасть в спячку» (2023, реж. Золяргал Пуревдаш)
Ульзий не просто пытается выжить — он тоже в поисках, он ищет выход, способ вырваться из удушающего цикла бедности и повести за собой своих братьев и сестер к лучшему будущему. Его успехи в физике становятся не просто школьными достижениями, а ключом к новым возможностям. Однако реальность заставляет его балансировать между мечтой об образовании и необходимостью прокормить семью. Ульзий ищет способы заработка: помогает пожилому соседу разносить мясные туши, занимается нелегальной заготовкой леса и продает свои кроссовки. Каждый раз он жертвует частичкой своего будущего ради настоящего своих младших братьев и сестер. В этом контрасте между суровой реальностью замерзающей юрты и яркими перспективами образования Ульзий видит шанс не только для себя, но и для своей семьи, осознавая важность «нэгдэл» — братства, которое в монгольской культуре подчеркивает силу общности и взаимопомощи в трудные времена.
«Если бы я мог впасть в спячку» (2023, реж. Золяргал Пуревдаш)
В конце концов, оптимизм фильма — это не наивное принятие желаемого за действительное, а свидетельство решимости братьев и сестер вырваться из порочного круга бедности и лишений. Финальный кадр, где Ульзий кормит огонь, окруженный смехом маленьких братьев и сестер, воплощает хрупкую, но непреклонную надежду, определяющую их жизнь.
«Город ветра» (2023, реж. Лхагвадулам Пурев-Очир)
В фильме «Город ветра» столкновение между духовным и материальным мирами составляет основу повествования, исследуя жизнь 17-летнего шамана. Главный герой Зе сталкивается с реальностью, в которой природа и дух неразделимы — мировоззрение, передающееся из поколения в поколение. Дух его пра-пра-прадеда становится одновременно и проводником, и бременем, напоминая ему, что само существование — часть бесконечного цикла.
Проводя ритуалы и справляясь со своей двойной ролью подростка и шамана, он начинает задумываться о том, что такое долг предков, так как во время одного спиритического сеанса Зе оказывается очарован дочерью маминой подруги, и эта связь вызывает в нем эмоции, которых он никогда раньше не испытывал. И у Зе возникает вопрос: что значит нести наследие, когда мимолетные моменты жизни — любовь, потери и тоска — требуют его внимания здесь и сейчас?
«Город ветра» (2023, реж. Лхагвадулам Пурев-Очир)
Сам город становится метафорой этой борьбы, «проблематичным ветром», который представляет собой одновременно духовный вихрь и неконтролируемые силы, формирующие жизнь главного героя. Фильм сопоставляет моменты глубокого духовного ритуала с сырым, материальным существованием, показывая молодого человека, разрывающегося между этими плоскостями.
«Город ветра» (2023, реж. Лхагвадулам Пурев-Очир)
Шаманские обязанности Зе, хотя и основаны на традициях и необходимости, вызывают эмоциональный и физический стресс, угрожая его связи с материальным миром. Девушка, которую он любит, становится символом мимолетной красоты и радости, опорой, которая в конце концов вдруг исчезает. Ее отъезд в Корею и смерть родного деда становятся поворотными моментами, усиливающими неизбежность потери и трудность освобождения от унаследованных циклов. В конце концов он понимает, что непостоянство жизни — это не то, чего нужно бояться, а то, что нужно принять, и этот урок так же важен, как и сами духи.
Заключение
Современное монгольское кино воплощает особый подход к культурному повествованию, в котором режиссеры ориентируются на сложное пересечение мудрости предков и современного бытия. Их работы исследуют, как традиционные духовные основы — от древних практик шаманских ритуалов до философских глубин буддийских учений — продолжают формировать понимание в эпоху маагай, где цифровые интерфейсы встречаются с древними знаниями и обычаями предков.
Это кинематографическое движение демонстрирует удивительную текучесть, постоянно перемещаясь между временными пространствами и метафизическими плоскостями, подобно вечному движению через бескрайние степи, которое исторически определило монгольское сознание. Фильмы тянутся к далеким горизонтам, как буквальным, так и метафорическим, исследуя темы, которые, кажется, почти невозможно постичь до конца — природу существования, отношения между людьми и окружающей средой, непрерывность духовного знания — и все же именно эта тяга, это постоянное движение к невыразимому, стало одной из их убедительных характеристик. В этом контексте, некоторые фильмы отражают глубокую человеческую потребность найти покой и смысл в постоянно меняющемся мире.
«Если бы только мы могли впадать в спячку. Как медведи зимой. Никогда не простужаться, не болеть гриппом», — младший брат Ульзия.
«Если бы я мог впасть в спячку» (2023, реж. Золяргал Пуревдаш)
Эти современные истории показывают, как духовные связи неожиданным образом проявляются в современном монгольском обществе: от сакральной геометрии, скрытой в городской архитектуре, до трансформации традиционных церемоний в ответ на текущую социальную динамику. Режиссеры создают сложный диалог между прошлым и настоящим, исследуя, как отдельные люди и сообщества ориентируются между унаследованной мудростью и современными проблемами. Через их объектив мы видим, как духовные практики не просто сохраняются, а активно переосмысливаются, сохраняя свою сущностную истину и находя новые формы выражения. Такой подход демонстрирует, что истинное сохранение культуры заключается не в жестком следовании прошлым формам, а в понимании глубинных духовных течений, которые всегда направляли монгольский народ, — течений, которые продолжают течь, находя новые русла в путешествии каждого поколения в будущее.
Buyandelger, Manduhai. Tragic Spirits: Shamanism, Memory, and Gender in Contemporary Mongolia. Illustrated, reprint. University of Chicago Press, 2013. 314 с. (дата обращения: 13.11.2024).
Страна собак // East East URL: https://easteast.world/ru/posts/643 (дата обращения: 15.11.2024).
Small Dramas in the Desert; Talking About «The Story of the Weeping Camel» // IndieWire URL: https://www.indiewire.com/features/general/small-dramas-in-the-desert-talking-about-the-story-of-the-weeping-camel-78872/ (дата обращения: 15.11.2024).
INTERVIEW MIT DER REGISSEURIN BYAMBASUREN DAVAA // WELTEXPRESSO URL: https://weltexpresso.de/index.php/kino/22855-interview-mit-der-regisseurin-byambasuren-davaa (дата обращения: 15.11.2024).
THE CAVE OF THE YELLOW DOG (Byambasuren Davaa, 2005) // Dennis Grunes URL: https://grunes.wordpress.com/2007/04/22/the-cave-of-the-yellow-dog-byambasuren-davaa-2005/ (дата обращения: 15.11.2024).
Die Adern der Welt // VISION KINO URL: https://www.visionkino.de/schulkinowochen/17-ziele/die-adern-der-welt/ (дата обращения: 15.11.2024).
Lkhagvadulam Purev-Ochir Interview — Director of ‘City of Wind’ // A GOOD MOVIE TO WATCH URL: https://agoodmovietowatch.com/projektor/lkhagvadulam-purev-ochir-interview/ (дата обращения: 15.11.2024).
Mongolian Director Zoljargal Purevdash Talks Cannes Title ‘If Only I Could Hibernate’; Surviving Extreme Winter & Inspiring Mongolia’s Youth // DEADLINE URL: https://deadline.com/2023/05/cannes-un-certain-regard-zoljargal-purevdash-if-only-i-could-hibernate-1235372844/ (дата обращения: 16.11.2024).
Бямбасурен Даваа. История плачущего верблюда. 2004.
Бямбасурен Даваа. Пещера желтого пса. 2005.
Петер Бросенс, Джессика Хоуп Вудворт. Хадак. 2006.
Бямбасурен Даваа. Две лошади Чингисхана. 2009.
Хоролдорж Чойованчиг. Желтый Жеребенок. 2013.
Бямбасурен Даваа. Артерии мира. 2020.
Цяо Сисюэ. Нить судьбы. 2022.
Золяргал Пуревдаш. Если бы я мог впасть в спячку. 2023.
Лхагвадулам Пурев-Очир. Город ветра. 2023.