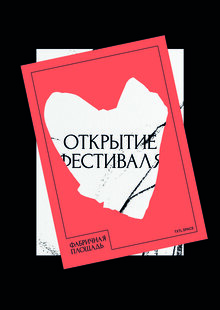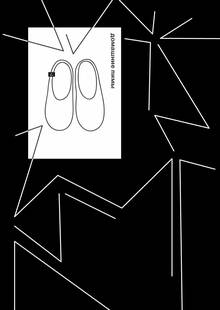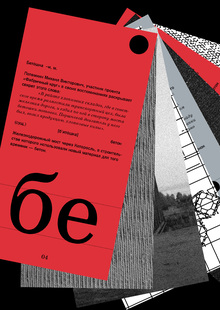Прекарность искусства: новое будущее институций?
Прекаризация художественного труда неотделима от устройства арт-системы и ее основных частей. Именно арт-система задает правила на рынке этого труда и правила его стирания в пользу навязывания индивидам конкуренции за неоплачиваемый труд. Институциональная сторона этого процесса затрагивается в «Художественном журнале» (2021, № 117), его тема — «Институции: продолженное будущее».
Одни авторы номера занимаются утопическим институциональным проектированием, другие — скорее критической диагностикой текущих условий и структурных особенностей институциональной среды, в которых появятся будущие институты. Однако объединяющей многих из них темой стал факт прекаризации труда, который предположительно окажет определяющее влияние на форму будущих институций — как желаемых, так и тех, которых стоит страшиться.
В открывающей номер беседе Ильи Будрайтскиса и Станислава Шурипы и в статье Александра Бикбова намечаются некоторые базовые оппозиции, полезные для понимания дальнейших обсуждений институций (например, институция: сдерживающая индивидов инстанция на месте общества или же продукт общества).
Бикбов на материале истории США, Франции и СССР задает генеалогический контекст современных тенденций в работе и дизайне культурных институций. Их исток — Вторая мировая война, ставшая триггером обновления институциональной сферы на новых основаниях (21). Она обрушила прежние структуры и порядки и освободила пространство для эксперимента.
«Ускорение и производительность становятся капитальными целями и плановых научных реформ 1950-х, и архаизирующего поворота к артистической дерегуляции труда в 1990-е» (20).
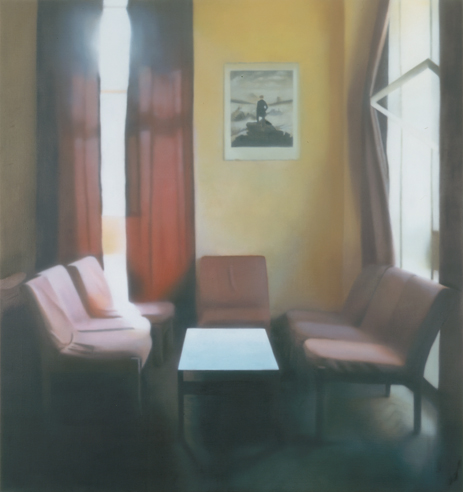
Paul Winstanley. Lounge A (1997)
Итак, в основе генеалогии современных институтов лежат два процесса.
Во-первых, шедший параллельно по обе стороны «железного занавеса» сдвиг к «эффективной культуре» и культуре эффективности в контексте экономической и технологической войны. Правительства начинают видеть в культуре — в частности в науке как ее образцовой модели — условие экономического роста и оптимизации коллективного экономического поведения (15). В возникших в 1950–60-е годы институциях сочетались оптимизм гуманистически понятого прогресса, дополненный задачей технократии и экономического роста, и этическое требование автономии культурных (научных) институций (22-23). Последнее обусловило нынешнюю романтизацию этих институциональных форм.
Во-вторых, институциональные эксперименты правительств неолиберальных реформаторов, развернувшиеся в 1990-е годы и перекроившие фундамент культурной сферы, заложенный в послевоенное время. Их ориентирами были гибкость, скорость и эффективность, а ключевыми инструментами — программируемый риск увольнения, система надбавок и в целом прекаризация труда. Это перекраивание затронуло и искусство, и науку: в одном — засилье временных проектов и арт-резиденций, в другом — требование мгновенной рентабельности и длительная прекарность. Изменилась институционально культивируемая длительность: нормой стали одно-двухлетние циклы, что подорвало претензии работников и самих культурных полей на автономию. Господствующей моделью культуры становится искусство, а универсализация артистической прекарности предлагается реформаторами в качестве «главного способа исправить неэффективную человеческую природу» (20).
Paul Winstanley. Viewing Room (1997)
Что касается культурных институций будущего, то возможной точкой роста для них Бикбов считает «консенсуальное понимание (и зачастую опыт) прекарности» (24). Однако «если революционное решение прекарности не опередит реформистское, то реформы, основанные на этом разрыве через 20 лет, имеют шанс оказаться патерналистскими, если не националистическими. То есть в России обновление институциональных моделей „сверху“ может пройти по линии спасения „особой“ местной культуры от ужасов глобального капитализма» (25).
Одним из способов избежать этого, по Бикбову, является соединение критики прекарности с коллективной рефлексией политической уязвимости в российских условиях авторитарных соблазнов.
Бояна Кунст разделяет внимание Бикбова к критике прекарности как точке роста институций будущего, однако иначе понимает принцип этого роста. Общая прекаризация управления превращает последнее в «процесс управления посредством непрерывной прекаризации […] через производство страха незащищенности» (10).
Проблема в том, что в этом страхе и под давлением непрерывного оценивания существуют и сами художественные институции, вынужденные все время защищаться, инициировать все новые проекты и эксперименты и доказывать свою прогрессивность (11). Поэтому в сердцевине каждой из них находится «туманная субстанция воображения», «расплывчатая, образная, мечтательная» (7). Они должны мыслить себя темпорально, как незавершающийся проект, в котором есть место работе воображения.
«Институцию следует воспринимать не как достижение, а как сложную ритмическую петлю между действиями „как если бы“ и воображением того, чего еще нет» (13). Словом, это не данность, а то, что необходимо пытаться изменить в соответствии с образом желанного будущего.
Paul Winstanley. Corner of a Room (2003)
Кунст предлагает творчески препятствовать закрытию институций, однако призыв свой формулирует почти на том же неолиберальном языке творчества, свободы, изобретательности и гибкости, которым оформляется управление, производящее прекарность (12). Ключевое отличие — требования верности открытости настоящего, инфраструктурной заботы и поддержки — едва ли что-то меняет, поскольку не выводит на выяснение границ изменения материальных условий возможности институтов. Действенные институциональные реформы не вызываются одной только «туманной субстанцией воображения» вкупе с заботой — как если бы институциональное проектирование было пространством безусловного воплощения желания, а не насыщенной средой со множеством правил и ограничений.
Многие из участников дискуссии предлагают те или иные модели желаемых будущих институций, и как правило речь идет о малых институциях. Один из тезисов Будрайтскиса отчасти поясняет этот интерес к ним. Институциям большим, обремененным материальной инфраструктурой, взаимодействием с государством, публикой, бизнесом, миссией репрезентации современного искусства в целом, он противопоставляет малые.
«У такой институции, не связанной обязательствами по отношению к настоящему […] возникает возможность участия в общественной дискуссии и жизни именно с точки зрения привнесения того, что в ней отсутствует, того, что из нее самой не рождается, но что соответствует ее будущему» (102).
Paul Winstanley. Utopia 2 (2005)
Представленные проекты будущих институций схожи друг с другом. Например, к идеям Кунст близка позиция Наташи Петрешин-Башлез, которая вслед за Изабель Стенгерс предлагает замедлить научные и художественные институции в рамках противодействия капиталистическому присвоению (82).
Это предполагает «радикальное открытие наших институциональных границ и демонстрации того, как они работают (или не работают), чтобы сделать наши организационные структуры „прощупываемыми“, слышимыми, восприимчивыми, мягкими, пористыми и, самое главное, деколониальными и антипатриархальными» (75).
Свои версии проектов предлагают группа авторов РРР и Маргарита Кулева. Каждый из участников РРР, представляя тот или иной регион, предлагает набросок желаемого будущего локальных художественных институций — в результате получается галерея будущих форм. Кулева, в свою очередь, приводит результаты своего этнографического исследования культурных институций в Москве и Петербурге, в центре которого «неформализация» трудовых отношений (89). Опираясь на эти результаты, она предлагает проект институций (не)будущего как преходящих открытых сред, в которых все являются исследователями, а работники пользуются значительной творческой свободой.
Paul Winstanley. Hub (2000)
Во многих из этих проектов вызывает смущение то же свойство, что в проекте Кунст: некоторые из их ключевых черт повторяют навязываемые неолиберальным управлением формы: ситуативность (читай проектность), открытость, пересобираемость, гибкость, мобильность, сетевой характер, нейтральность, выключенность из структурных противостояний, ориентация на преобразование отношений между людьми.
Эта по меньшей мере поверхностная схожесть желанных форм будущего с неолиберальными принципами настоящего может быть неслучайна. Розалинд Краусс напоминает, что, создавая утопическую альтернативу или компенсацию настоящему, отягощенному коммодификацией и индустриализацией искусства, мы создаем образ воображаемого пространства, которое неизбежно сформировано структурными особенностями этого настоящего (42).
Возможный способ избежать такого воспроизведения неолиберальных форм — обратиться к идеям прошлого. Дэвид Гребер и Ника Дубровская замечают, что многие современные художественные институции и их проекты, противостоящие художественному и государственному истеблишменту, по-разному повторяют то, что уже Александр Богданов начал реализовывать в Пролеткульте в 1917–1920 годах (123-125).
В частности, для сети советских Домов культуры и местных музеев, сохранившихся и спустя сто лет, были характерны децентрализация и локализация, демократизация искусства и его переориентация на конкретные нужды людей, существование за пределами логик признания и влияния. Возможно, переосмысление опыта Пролеткульта могло бы помочь построить институции на основаниях, отличающихся от форм настоящего. Однако для этого требуется рефлексия материальных условий возможности.
Paul Winstanley. Veil 1 (1999)
Розалинд Краусс гораздо более конкретна (и безжалостна) в своем видении будущего художественных институций и предвидит их дальнейшее погружение в рыночные отношения и формы. Из ряда наличных тенденций и событий она собирает образ индустриализированного музея, который с большой вероятностью является конечным пунктом эволюции нынешних музеев. Коллекции и предметы искусства превратятся в «ресурсы» и будут включены в цепочки продаж, залогов и кредитования, эффективность и прибыль окончательно станут определяющими принципами, ради роста продаж будут наращиваться музейные площади (читай торговые площади) и коллекции, частыми станут слияния и поглощения музеев.
«такой индустриализованный музей будет иметь гораздо больше общего с предприятиями индустриализованного досуга — Диснейлендом, например — а не со старым, доиндустриальным музеем. Таким образом, он начнет взаимодействовать с массовыми рынками, а не с рынками искусства, а также с симулякровым опытом, а не с эстетической непосредственностью» (45).
До боли знакомо? Еще бы. Эта статья написана Краусс в 1990 году, о чем в публикации перевода почему-то не упомянуто, хотя обычно это делается (даже статус классического текста, «известного всем», не оправдывает умолчание).
Вероятно, на фоне других материалов номера этот текст мог бы подчеркнуть нынешний провал мышления о будущем: за тридцать лет мы потеряли способность содержательно говорить о нем и способны разве что искать возможные точки роста и контуры желанного. А невольная уловка осовременивания текста лишь подчеркивает: само собой сбывается худшее, а желанное требует для своего исполнения усилий и работы.
Paul Winstanley. Nostalgia 3 (2000)
Предлагаемое Краусс видение пессимистично, так как в нем крайне мал зазор для свободы институции в условиях ее детерминированности. Такому зазору посвящена статья Бориса Гройса. Он предлагает переосмыслить художественные институции в горизонте исторического процесса. Музеи — одни из немногих инстанций, разделяющих взгляд Angelus Novus Вальтера Беньямина, которому открываются экстерналии прогресса и истории: их отброшенные и уничтоженные достижения, утраты и разрушения.
«Музейный белый куб — контейнер, наполненный пустотой. Эта пустота может вобрать в себя все возможные объекты, утратившие свой мир и ставшие лишь безмирными вещами — весь мусор, все остатки исчезнувших цивилизаций» (55).
Музейная система — особенно после ухода линейности из экспозиций и смены художественных стилей — демонстрирует это ничто, пустоту посреди цивилизации, ориентирующейся на достижение практических, материальных целей (что перекликается с тезисом Будрайтскиса о малых институциях).
Однако если вернуться от ангелов к смертным, то вопрос о трансформациях художественных институтов тесно связан с базовым противоречием между материальными условиями художественного развития и идеологией искусства.
Андреа Фрейзер, продолжая линию Краусс в этой дискуссии, обращается к противоречию между зависимостью мира современного искусства от финансовой сферы и распространенными в нем критико-политическими дискурсами борьбы за социальную справедливость. Все больше художников, критиков и кураторов включаются в борьбу за социальную справедливость, причем часто в рамках организаций, финансируемых корпоративными спонсорами и частным капиталом, которые способствуют росту социальной несправедливости.
Andrea Fraser. Untitled (video, 2003)
Это противоречие вписано в самую проблематичную, по Фрейзер, художественную институцию — художественный дискурс.
Художественный дискурс остается главным барьером между «жизнью» и «искусством», отделяя эстетические и эпистемические формы от экономико-социальных: притязания на критику сочетаются с пренебрежением к реальности условий художественного процесса (63-65).
Он будто говорит о мире, чтобы не говорить о нем: вслед за Бурдье Фрейзер считает, что художественному дискурсу присуще психоаналитическое отрицание социального и его детерминаций, экономической необходимости (65). Оно действует примирительно: «основным объектом этой защиты могут быть конфликты, связанные с экономическими условиями существования искусства, и наш вклад в экономическое господство и распространение нищеты — того, что олицетворяет огромные богатства, репрезентацией которых мир искусства по сути является» (67).
В результате художественный дискурс колеблется между цинизмом и критической позицией, между элитизмом и популизмом, между эстетизмом и утопизмом.
Выход из этой ситуации, по Фрейзер, связан не с тем, что делается в искусстве, а с тем, что говорится о том, что делается. Нужна практически психоаналитическая работа с этим отрицанием (не осуждать его, а работать с силами подавления) внутри художественного дискурса, а вовсе не очередное, но трансформативное художественное новшество. В гегелевском духе Фрейзер заключает: «Хотя трансформация художественного дискурса, конечно, не разрешила бы ни одного из заметных конфликтов в общественной жизни или даже внутри нас самих, она могла бы, по крайней мере, позволить нам выстроить с ними более честное и эффективное взаимодействие» (72).
Paul Winstanley. Villa (2009)
Дискуссия в «Художественном журнале» едва ли обнадеживает: туманно не только будущее институций, но даже основания желания, инвестируемого в его обсуждение. Однако есть в обсуждении один или два упущенных момента. Почти все авторы понимают институцию как то, что собирает в себе и упорядочивает усилия индивидов, существуя по какой-то своей автономной логике. Речи не идет о содержательной связи между самим искусством и формой институций: кто-то, как Фрейзер, прямо говорит, что будущее институций не зависит от художественных новшеств. Но одновременно форма большинства обсуждаемых институций эксплицитно как будто не зависит от общества, не является его продуктом (Краусс не в счет). Это второе по Будрайтскису понимание институции, и оно остается за кадром. Возможно, ориентация на него даст дополнительный импульс поискам и проектированию форм будущих институций.
Источник:
Писарев А. Обзор российских интеллектуальных журналов // Неприкосновенный запас. 2021. № 5 (139).
В оформлении обложки использована работа Paul Winstanley. Lobby 8A (1991)