
О темных антропологиях: онтологический поворот и гибридный мир
В 2022 году вышел двухтомник «Логоса», посвященный актуальным направлениям современной антропологии.
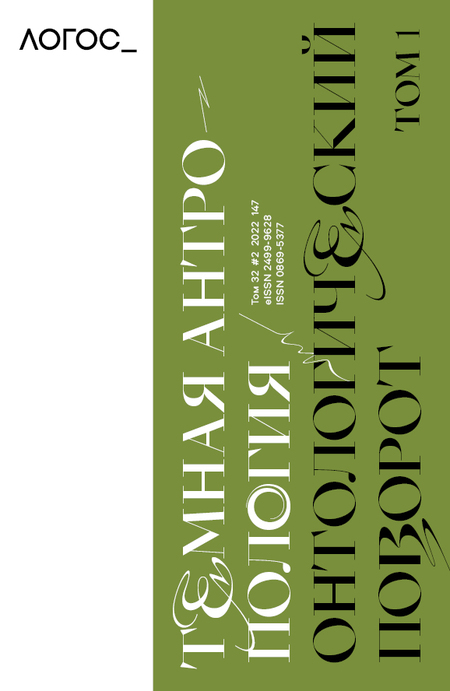
В первом номере (2022. № 2) обстоятельно обсуждается онтологический поворот в антропологии, его ограничения и возможное развитие. Это выражение появилось в лекциях антрополога Эдуарду Вивейруша де Кастру, прочитанных в Кембридже в 1998 году (в STS, заметим, это произошло несколько раньше и по иным мотивам), поэтому биографическое интервью с ним и открывает дискуссию (начинается номер с обзора Шерри Ортнер, но его лучше прочесть потом в качестве введения ко второму, более «приземленному» номеру).
Онтологический поворот, по де Кастру, предполагал сравнение онтологических предпосылок разных антропологий, прежде всего модерных и немодерных, или незападных, в противовес господствовавшей в те годы эпистемологизации антропологии. То есть изучать не только знания и классификации, но и метафизики разных народов (67-68). Он выдвигает неожиданный тезис: туземная мысль должна пониматься как метафизическая в том смысле, что она озабочена метафизическими проблемами и вселенной.
«Метафизика — один из способов жизнедеятельности всех человеческих и, кто знает, возможно, и нечеловеческих существ"(70).
Занимаясь метафизикой, антропология сама становится метафизикой, даже этнометафизикой. Из интервью читатель также узнает о связях и расхождениях между антропологическими онтологиями и современными философскими проектами, об истоках центральной идеи де Кастру, перспективизма, и о недооцененном позднем Леви-Строссе, перешедшем от структур к трансформациям (85).
Подробнее тезис об антропологии как метафизике и его противопоставление эпистемологической рамке раскрывается уже в статье де Кастру. Примечательно, что, по его мнению, задача антропологии — не объяснение мира другого, а умножение нашего собственного путем признания возможностей мысли другого (184).
Онтологический поворот — «действие по предоставлению пространства для другого […] обязательство позволить туземцам, кем бы они ни были, выражаясь онтологически, делать это по-своему» (183). Поскольку мы ограничены собственными онтологическими допущениями, задача антропологии — создавать условия для онтологического самоопределения другого, который является возможностью, угрозой или обещанием другого мира, содержащимися в его перспективе.
Мартин Холбрад вступает в полемику с де Кастру и оспаривает тезис об антропологии как онтологии или метафизике. Он обращает внимание на то, что антропология не объясняет и не интерпретирует, она должна концептуализировать (133-136). Это предполагает особую чувствительность, своего рода интеллектуальную эстетику. Этапы и особенности процедуры Холбрад демонстрирует, анализируя примеры из работ Мосса и Эванса-Притчарда.
В ходе концептуализации контингентность этнографических материалов превращается в формальный язык концептуальных отношений и разделений, который выражает контингентное, а не обобщает. Морфологичность этой процедуры (139), ее внимание к «контурам» концептуальных отношений и ее экспрессивность сближают антропологию с искусством (162).
Nigel Cooke. Thinking. 2004-2005
Тему перспективизма подхватывают Евгений Кучинов и Денис Шалагинов, обогащая эту идею техническим. «Множественность точек зрения […] дополняется гаптической множественностью линий технического действия […] желательно — понять точку зрения в качестве частного случая гаптического действия или технезы […] техника — это действительно диакритическая черта, отличающая человека, черта раздвоения между культурой и природами, но проходит она по всем видам, не только по homo sapiens. То есть: все живые существа (а ограничений на одушевление, как мы знаем, в перспективизме нет) используют одну и ту же технику, но в разных природах» (117-118).
Обсуждение фигуры техники в антропологии продолжает Денис Сивков. Он разбирает ряд версий онтологического поворота с точки зрения их способности объяснить то, что происходит в индигенном коллективе человеческих и нечеловеческих существ вследствие необратимых (пост)колониальных технологических изменений. Персоналистские варианты анимизма Филиппа Дескола и де Кастру, опирающиеся на допущение существования личности, понимают коллектив как «не-контактный хронотоп, в котором время застыло, а пространство непроницаемо. Здесь нет места колониальным товарам и технологическим новшествам западного мира» (206) или же проникновение технологий остается незамеченным. Проекты Эдуардо Кона и Мортена Педерсена также наталкиваются на серьезные ограничения. Сивков показывает, что возможный выход из этой проблемы связан с переносом акцента на отношения в реляционных онтологиях Нурит Бёрд-Дэвид и Элизабет Повинелли (218).
Nigel Cooke. Artist’s Garden. 2006
В заключение — и предваряя переход к следующему номеру — мы вернемся в начало к обзору Шерри Ортнер. Ее статья хорошо вводит в проблематику, которая скрывается за заявленной в теме двухтомника «темнотой» (пожалуй, это наиболее осмысленный вариант интерпретации этой ставшей чересчур расхожей метафоры) и задает контекст материалам второго номера.
Ортнер пишет о трех направлениях в антропологии, развивавшихся на фоне подъема начиная с 1980-х тьмы неолиберализма как экономической и гувернаментальной формации, обусловившей усиление расслоения среди граждан и стран. Первое направление — собственно темные антропологии, находящиеся под влиянием прежде всего Маркса и Фуко, — занимаются изучением неприглядных сторон жизни в неолиберальных и колониальных обществах — неравенством, государственным насилием, безработицей, прекарностью, сокращением социальной политики, депрессией, ощущением безнадежности, апроприацией, навязыванием культурных норм — а также структурных и исторических условий, которые их производят (6-8).
Антропологии блага — второе направление — возникли во многом как сопротивление повороту к темным антропологиям (22). В этих «позитивных антропологиях» тематизируются возможности, проекты и практики благой или счастливой жизни во тьме неолиберализма. Они включают «более психологическую/медицинскую версию с ее акцентом на счастье и/или благополучии (и стремлении к ним), так и более моральную/этическую версию с ее акцентом на добродетели и благе (и стремлении к ним)» (25).
Наконец, из антропологий блага вырастают антропологии критики и сопротивления, а также набирающая популярность активистская антропология (33). В этой связи необходимо различать работы, где автор участвует в изучаемом противостоянии, и те, где он выражает солидарность с одной из сторон, но не участвует в противостоянии напрямую (28). Ортнер выделяет три области этих антропологий: об условиях неравенства, власти и насилия в различных частях света, о переосмыслении капитализма как системы и о социальных движениях неолиберального общества. Для многих из этих проектов важен поворот к практикам, инициированный Бурдье, поскольку он порождает потенциал преобразования: «если мы создаем мир посредством социальной практики, то сможем разобрать его и переделать посредством социальной практики» (31).
Nigel Cooke. Morning is Broken. 2005
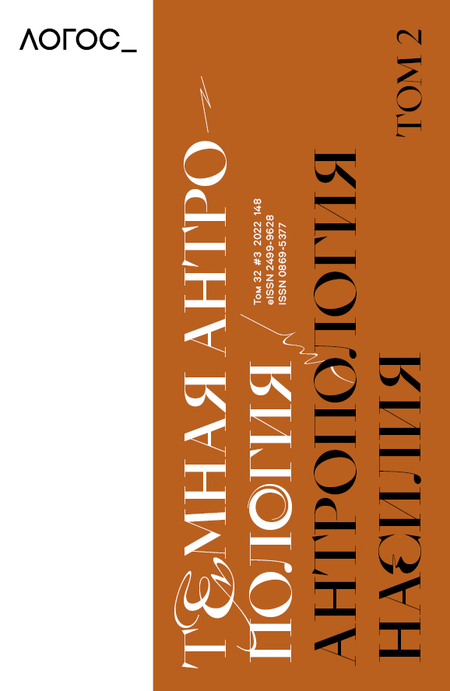
Собственно темным антропологиям и посвящен следующий номер «Логоса» (2022. № 3), сосредоточенный на теме насилия. Номер готовился в 2018–2021 годах, поэтому не отражает той конкретной остроты, которую приобрел вопрос о насилии сегодня. В редакционном предисловии подчеркивается:
«Выработанные в мирных условиях концепты проходят такую же проверку кризисом, как люди, техника и политические институты. Концепты, необходимые для интерпретации проблемы насилия не являются исключением и станут вызовом для нашей методологии. Что будут значить наши прежние идеи о насилии inter armae?» (29).
В этом смысле в текущих условиях номер о насилии стоит воспринимать не только как сумму результатов исследований и размышлений, но и как набор инструментов проблематизации и видения, а также тезисов для испытания на конкретном и настоятельном материале ради его понимания.
Обсуждение открывается критикой идеи гибридной войны в статье Николая Ссорина-Чайкова. Он обращает внимание, что «гибридность в контексте современных войн используется в первую очередь для описания врага, а не самоописания» (35). Автор скептически оценивает эвристический потенциал понятия, но отмечает важный момент: «гибридность» новых войн делает проблематичным разграничение состояния войны и состояния мира. Ссорин-Чайков переносит это свойство на мир и на основе современных этнографий войны выстраивает концепт гибридного мира (37).
Это странное и враждебное пространство, номос, результат территориальных и понятийных различений. Он конституируется современными методами ведения войны, здесь война не похожа на войну, мир — на мир, и нет четких границ. Воля конфликтующих сторон реализуется через декларативный отказ от нее путем делегирования военных действий союзникам или частным контрагентам и пользования карательными инфраструктурами чужой территории, где систематически нарушаются гражданские права и не действуют механизмы ответственности (45).
Nigel Cooke. Theme Park. 2008
Примеры гибридного мира — военные действия с применением беспилотников на Ближнем Востоке, экстерриториальность гарнизонов и партизанский движений в Центральной и Западной Африке, ризоматические операции Армии обороны Израиля. Стоит отметить, что одним из источников гибридизации являются инфраструктуры безопасности, ориентированные на будущее и создаваемые в рамках предупреждения, профилактики и предвосхищения будущих войн. Гибридный мир, создаваемый в рамках этого менеджмента угроз, — это пространство сосуществования актуальных и потенциальных угроз, где в пределе потенциальным врагом, комбатантом, партизаном может быть неопределенно широкое множество субъектов.
Игорь Чубаров и Юлия Аполлонова продолжают размышления о меняющейся природе войн, тематизируя беспилотники в качестве социальных акторов, по-разному входящих в резонанс с разными традициями этики войны. Они обращают внимание на устройство дискурсов, оправдывающих применение дронов: в них западному индивидуализму, минимизации потерь, ценности жизни, экономической эффективности, инновационности и избирательности насилия по умолчанию противопоставляется незападная коллективность, этика самопожертвования, пренебрежение жизнью, неизбирательность убийств и расточительство. В этом смысле дрон — своего рода оператор сакрального насилия, концептуальный персонаж, меняющий правила военно-политической игры. В заключение Чубаров и Аполлонов обсуждают этику дронов, которая могла бы лечь в основу осмысления «новых войн» международным правом (90). Ее проблемное ядро — связь между агентностью дрона и этической ответственностью его оператора.
Насилие в своем многообразии не всегда получает однозначно негативную оценку. В этой связи отправной точкой размышлений должно быть различие двух диалектически связанных типов насилия — со стороны обладающих властью и со стороны угнетенных, бесправных и исключенных. Эту диалектику использует в качестве рамки анализа Оксана Тимофеева, ставя вопрос об обосновании освободительного насилия. Она исследует его историческую генеалогию на материале проектов его обоснования у Сореля (всеобщая стачка), Батая (сакральное насилие), Беньямина (божественное насилие) и Фанона (борьба за освобождение колоний). Особое внимание Тимофеева уделяет Батаю, у которого появляется сюжет насилия нечеловеческого, важный в контексте проблематики антропоцена.
Nigel Cooke. Silva Morosa. 2002–2003
Хотя идея антропоцена предполагает относительно беспроблемное распространение и даже повсеместность техники, с антропологической точки зрения такие трансферы вовсе не являются универсальным явлением. Так, Дэвид Грэбер на материале малагасийской культуры анализирует выявленный Марселем Моссом феномен отказа племен от заимствования у соседей практически полезных изобретений и навыков при осведомленности о них и понимании их полезности (интересный штрих к исследованию Сивкова). Грэбер предполагает, что такой отказ от ценностей соседей — свидетельство политической зрелости — является структурным элементом выстраивания собственной культуры. Скажем, гомеровская Греция сознательно не перенимала ценности централизованных и бюрократизированных торговых обществ Ближнего Востока. Заимствуя понятие у Грегори Бейтсона, Грэбер называет это схизмогенезом: самоопределениее от противного, «творческий» отказ и неприятие. Признание конститутивности этого акта позволяет переосмыслить историю человеческих обществ.
Своего рода полемическим ответом на статью Грэбера является рецензия на его книгу «Заря всего. Новая история человечества» Дмитрия Кралечкина. Он обращает внимание на противоречия и недостатки подхода и метапозиции, исходя из которых всемирная история человечества пишется как жанр. Кралечкин критикует попытку Грэбера разбить популярный нарратив сельскохозяйственной революции в истории человечества апелляцией к эмпирическим исключениям и отклонениям, а не предложением другого нарратива. Вдобавок антрополог восстанавливает руссоистский миф своей критической установкой по отношению к власти, в которой власть в конечном счете оказывается виновницей цивилизационного падения.
Источник: Писарев А. Обзор российских интеллектуальных журналов // Неприкосновенный запас. 2022. № 5 (145).
В оформлении использован фрагмент работы Виталия Пушницкого «Ожидание № 6» (2016).



