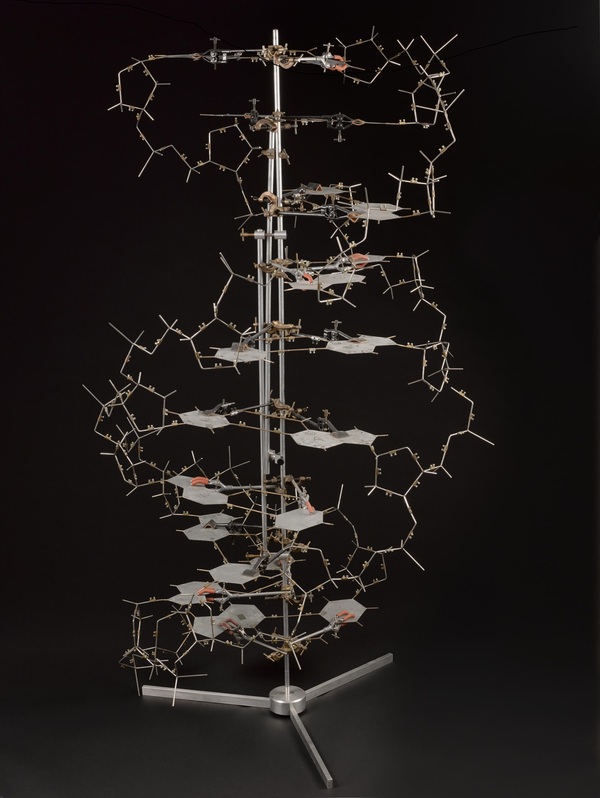
Чистая наука, холодная война и STEM: из истории западных музеев науки
Этот очерк нескольких эпизодов из истории формирования музейной репрезентации технонауки является частью серии из шести лонгридов об особенностях, проблемах и возможностях репрезентации науки и техники в музее.
1 Чистая наука, холодная война и STEM: из истории западных музеев науки.
2 Чьим взглядом мы видим в музее: музеи-храмы и невидимые авторы.
3 Техника в музее. От привычных вещей к странным гетерогенным сетям.
4 Поженить ежа с ужом: к генеалогии союза науки и техники.
5 Трехмерные учебники: почему музеи науки не так много говорят о самой науке?
6 Как пересобрать музей науки и техники? К новой кунсткамере.

Jardin des plantes, главное здание Muséum national d’histoire naturelle, одного из первых музеев естественной истории, выросшего из Королевского сада лекарственных растений. Париж
В качестве методологического предуведомления
Во-первых, то, чем на практике занимаются ученые — не то же самое, что образ науки, транслируемый ею вовне. Как любое социальное образование наука предъявляет себя остальному обществу, преследуя собственные интересы, в разные исторические периоды разные. Осознание этой разницы стало одной из методологических посылок исследований науки и техники (STS): изучать то, что ученые делают, а не то, что ученые говорят о том, что они делают. Эту разницу стоит удерживать во внимание, размышляя о публичной (само)репрезентации науки, частным случаем которой являются музеи науки.
Во-вторых, речь пойдет о науке как science, то есть, о естественных науках. Для удобства они будут именоваться «наукой», хотя, разумеется, никакой единой науки с единым методом не существует. Есть множество дисциплин и научных сообществ с частично совпадающими методами и критериями научности. Тем не менее публичная (само)репрезентация науки склонна представлять некую единую естественную науку вообще, опуская различия между дисциплинами, какими бы существенными они ни были.
На протяжении своей современной истории наука часто пыталась приблизиться к обществу, примеряя различные образы от идеала публичного разума до доступной немногим технической деятельности, своего рода высокоразвитого ремесла.
В ходе этих попыток она заключала союзы с разными силами (аристократия, государство, бизнес, общество), приобретала культурные формы и идеи, которые впоследствии составили важную часть ее присутствия в современном обществе. Некоторые вехи этого пути позволят лучше понять контекст становления современной репрезентации науки в обществе.
Джузеппе Беццуоли. Галилей демонстрирует закон гравитации своему покровителю Медичи. 1839
Первоначально аудиторией науки были просвещенные элиты, короли и министры — ученые взывали к ним, чтобы сделать мир лучше, развлекали их и посвящали им трактаты, чтобы получить поддержку. Лишь в XVIII веке, в эпоху политической и промышленной революций, сторонники науки постепенно начали действовать, руководствуясь идеей важности донесения научных результатов и образа мышления до более широкой аудитории вплоть до всего населения. Интерес у публики вызывали не только яркие демонстрации экспериментов вроде птиц, задыхающихся под воздушным насосом, но и гораздо менее спектакулярная математика. Этот процесс начался в Америке и Британии, затем и в континентальной Европе. Уже в XIX веке относительно замкнутую Республику ученых сменила более публичная культура науки [Портер 2020, 104].
Джозеф Райт. Эксперимент с птицей и воздушным насосом. 1768
Джозеф Райт. Философ читает лекцию об устройстве Солнечной системы, используя ее механическую модель, в которой лампа заменяет солнце. 1766
Майкл Фарадей читает рождественскую лекцию в присутствии Принца Альберта и королевской семьи в Королевском институте, Великобритания, ок. 1855. Ежегодные рождественские лекции читаются с 1825 года.
«Дядюшка Фасби» читает рождественскую лекцию по химии для семьи. Punch, 1866. Punch Historical Archive
Одним из ключевых событий профессионализации науки и ее раскрытия навстречу обществу были развернувшиеся в 1860-е годы публичные диспуты вокруг эволюционного подхода Чарльза Дарвина, в которых основные линии противостояния пролегали как между самими учеными, так и между учеными и священниками. Например, знаменитая дискуссия о происхождении человека в Музее естественной истории Оксфордского университета в 1860 году, главными участниками которой были популяризатор науки, зоолог Томас Гексли и епископ Сэмюэл Уилберфорс. Это была борьба недавно возникшей science в ее современном понимании с христианством за умы и души современников: наука предъявляла себя в качестве идеала публичного разума, способного двигаться вперед за счет дискуссий и реформировать и общество, и человека. Одним из инструментов такого преобразования полагался научный метод.
Карикатура на Чарльза Дарвина. Linley Sambourne. Man Is But a Worm. Punch’s Almanack, 1882
Карикатуры на Сэмюэла Уилберфорса (слева, Vanity Fair, July 1869) и Томаса Гексли (справа, Vanity Fair, January 1871)
По словам историка науки Теодора Портера, «эволюционный натурализм был попыткой не прочертить строгие границы и исключить аутсайдеров, а установить культурную значимость науки и таким образом реформировать общество. То же притязание проявлялось и в новом возвышении „языка научного метода“. Это выражение, вырвавшееся на первый план в конце XIX века, утверждает вовсе не гегемонию технических экспертов, а науку как место интеллектуальной добродетели, доступное каждому. Метод науки иногда связывался со строгими требованиями математической точности, но часто предполагал форму логической вероятности, эпистемологическая скромность которой уравновешивалась его неограниченной применимостью. Морализаторы от науки призывали людей применять этот метод в повседневной жизни, оставив в стороне предубеждения и открыв разум для фактов мира» [Портер 2020, 110–111].
Перед естествознанием, взявшим на себя просветительскую миссию, открывался огромный фронт работ: городская беднота и рабочий люд, колонии Африки и Азии. Многие видные ученые — например, Томас Гексли, Герман фон Гельмгольц, Карл Пирсон, Джон Дьюи — прилагали усилия к тому, чтобы через образование интегрировать науку как science в жизнь общества и воспитание умов в качестве их фундамента. На этом поле наукам приходилось конкурировать с классическими гуманитарными дисциплинами.
Так или иначе, к концу XIX века современность и состояние просвещенности повсюду в западном мире ассоциировались с естественными науками.
«Современники называли это время эпохой науки. Можно поправить их и назвать ее эпохой публичной науки, чтобы противопоставить образу более технической и коммерциализированной науки, действующей в гораздо больших масштабах и сформировавшейся в XX веке» [Портер 2020, 111].
Особую роль в этом обращении науки к обществу играли музеи, в этот период постепенно открывавшиеся навстречу широкой аудитории и перестававшие быть только местами хранения коллекций и архивов, исследований и подготовки научных и технических кадров. Просвещение как новая функция развивалось во взаимосвязи с широким, в том числе политическим контекстом, и в некоторых случаях музеи становились специфическими инструментами национальных государств по производству образцовых граждан (см. напр.: [Haraway 1984–1985; Macdonald 1998]), а много позднее — осведомленных потребителей продуктов науки.
Например, в своем исследовании Африканского зала (1920-1940-е годы) Американского музея естественной истории в Нью-Йорке Донна Харауэй подробно разбирает историю и социально-политический контекст производства этого зала, а также его интерьеры.
Посетителю еще до залов с экспонатами предлагается весьма насыщенный контекст для их восприятия. Более того, предполагается один тип посетителя: мальчик, которому предстоит стать мужчиной. Здание оказывается одновременно храмом природы, научно-исследовательской институцией, народным музеем, банком и неоклассическим театром. Все эти ипостаси собраны под шапкой чествования мужественности, западной демократии, патерналистской опеки западного человека над «примитивными» народами, протестантизма, торговли, науки и духа приключений.
Расовая иерархия монумента Теодору Рузвельту перед входом в Американский музей естественной истории (1940). Летом 2022 года по запросу музея было принято решение демонтировать монумент.
Входной холл Американского музея естественной истории. Репрезентации природы становятся здесь способом нациестроительства и субъективации граждан, прежде всего мужчин. 1920-е годы
Входной холл Американского музея естественной истории. Природа одновременно полагается как тайна (чтобы быть экраном для трансляции ценностей) и как ресурс нации. 1920-е годы
Диорама «Львы» Африканского зала Американского музея естественной истории. Нациестроительство продолжается и в самой экспозиции: патриархальная семья — выражение мудрости и гармонии природы.
Иными словами, музей науки не просто репрезентирует научные представления о природе: эти представления призваны что-то изменить в текущем положении западного человека, поэтому подаются под соусом вполне конкретных моральных и политических ценностей. Наука познает природу на благо сообщества граждан и нации, и здесь музей науки обращается к молодому человеку, гражданину par excellence, а не абстрактному посетителю с неопределенным полом и гендером. Американский музей естественной истории предстает машиной трансформации сознания и морального состояния гражданина. Здесь он не только устанавливает индивидуальную эмоциональную связь с природой, но и испытывает связь с сообществом граждан.
Одновременно на фоне успеха всемирных выставок второй половины XIX — начала XX века, демонстрировавших достижения промышленности и науки, в музеи все больше входит техника, и на первую треть XX века приходится волна учреждения музеев науки и промышленности (крупнейшие — в Мюнхене, Лондоне, Нью-Йорке).
Политехнический музей, Москва, ок. 1885 года
Наука в контексте Big Science и холодной войны
Со Второй мировой войной наступает эпоха Big Science, поменявшая характер публичности науки. Масштабные научные проекты, огромные бюджеты, научные коллективы и гигантские технические установки, близость ученых к вершинам власти и бизнеса и еще более тесная связь с оборонной промышленностью — еще никогда наука не была настолько технически изощренной и настолько же закрытой от общества.
Карта объектов Манхэттенского проекта. Голубой цвет — военные и государственные объекты; оранжевый — университеты и лаборатории; зеленый — заводы и подрядчики. Карта составлена Alex Wellerstein.
Масштаб Манхэттенского проекта с 08.1942 по 12.1946: расходы и численность сотрудников разных категорий. Составлено Alex Wellerstein
Операторки ЭВМ на заводе Y-12 в Оак Ридж, входившем в цепочку производства ядерного топлива в рамках Манхэттенского проекта. Photo by Ed Westcott, 1944 (Department of Energy)
Ядерная бомба «Малыш» готовится к погрузке в бомбардировщик Enola Gay под наблюдением команды физиков. Накануне атаки на Хиросиму. National Archives and Records Administration.
Жители Хиросимы на мед. пункте около реки Отагава. Фото сделано спустя три дня после бомбардировки. Yotsugi Kawahara
Руины Хиросимы. Фото сделано спустя месяц после бомбардировки. Stanley Troutman, AP
С этой новой наукой были связаны не только новые надежды, но и возросшие страхи.
Общество было обеспокоено масштабом финансовых вливаний, сотрудничеством ученых с военными и их неподотчетностью, но едва ли не больше — неоднозначными последствиями передовой науки и техники (от химического оружия до взрывов атомных бомб).
Поэтому после Второй мировой войны особенно актуальной стала задача по укреплению авторитета науки и повышению уровня ее понимания обществом. Прежний триумфалистский образ был опасен, а положение самой науки зачастую мыслилось учеными как осадное (масла в огонь подливал публичный успех псевдонаучных проектов вроде хронологии Иммануила Великовского [Gordin 2012], с которыми ученые были вынуждены конкурировать и бороться).
В этот период появилось много начинаний, стремившихся укрепить авторитет науки и создать для нее новый образ, соответствующий ее современному положению, состоянию и интересам, а также требованиям начавшейся Холодной войны и технологической гонки.
Центральным решением при создании этого более привлекательного для общественности образа был акцент на чистой науке в ущерб прикладной.
Все негативные последствия вроде оружия массового поражения или экспериментов на людях вместе с неоднозначным влиянием государства, бизнеса и самого общества списывались на прикладную. О ней сообщалось крайне мало — вплоть до того, что техника предъявлялась как прямое воплощение научного знания и абстрактных инженерных схем, минуя сферу прикладной науки с ее институтами, стандартами работы и собственной рациональностью.
Чистая наука при этом оставалась незапятнанной — фундаментальным незаинтересованным познанием природы.
Среди этих начинаний выделяются два, сделавшие существенный вклад в развитие репрезентации науки. К обоим были причастны непосредственные участники военных проектов Big Science
Первое — институционализация истории науки и ее включение в университетские учебные планы в 1940–50-е годы. Эти процессы были во многом связаны с деятельностью президента Гарварда (1933–1953) и высокопоставленного функционера от науки химика Джеймса Конанта. В межвоенное время Конант участвовал в разработке отравляющих газов. Позднее, став в 1941 году председателем Национального исследовательского комитета по обороне (NDRC), он курировал крупные научные проекты, в том числе Манхэттенский проект, а также имел прямое отношение к решению о применении атомной бомбы в Японии. После войны работал в государственных комитетах, координировавших научные разработки в области обороны, краткое время был Верховным комиссаром США в Западной Германии, а после завершения карьеры много писал о реформировании образования.
Церемония присвоения почетных степеней, Гарвард, 1947. Сидят: Р. Оппенгеймер (1-й слева), Д. Конант (4-й слева), генерал, гос. секретарь Д. Маршалл (3-й справа).
Благодаря своей карьерной траектории Конант постоянно работал на границе науки, власти и бизнеса, поэтому хорошо понимал общее положение науки, его риски и возможности. Он был озабочен тем, чтобы объяснить студентам Гарварда (в перспективе и других университетов) — будущим политикам, юристам, бизнесменам, от которых будет зависеть судьба и финансирование науки — что такое наука, почему она эффективна и почему результат в ней не гарантирован.
Конант считал, что лучше всего науку объяснит демонстрация того, как устроена научная практика, а не ее результаты: чтобы убедить, надо показать процесс, чтобы убедиться — увидеть его. Поэтому в качестве инструмента он избрал историю классических экспериментов науки Нового времени, в череде которых необходимо было вычленить инварианты научного мышления.
Кроме того, предполагалось, что апология чистой науки в ее нововременном исполнении обелит науку современную с ее неоднозначными технологиями и обеспечит ей финансирование и положительный образ.
Читать задуманные курсы Natural Science, объединенные в программу General Science [Hamlin 2016], он пригласил молодых ученых, будущих крупных историков науки, таких как физики Томас Кун и Бернард Коэн, химик Леонард Нэш и историк Джеральд Холтон. Тогда история наука еще выполняла апологетическую функцию по отношению к науке, но уже через несколько десятилетий усилиями в том числе Томаса Куна заняла в основном критическую позицию [Дастон 2020].
Второе начинание относится к 1960-м годам, когда предельно настоятельными стали требования достигшей своего пика Холодной войны. Оно состояло в радикальном расширении присутствия науки в школах и жизни школьников — логичный ход на фоне технологической гонки.
В 1956 году глава Комиссии по атомной энергии США бизнесмен Льюис Стросс объявил, что США ведут против СССР «холодную войну в школах» (Cold War of the classrooms).
Речь шла уже не только о подготовке научно-технических кадров: наука должна была стать инструментом воспитания граждан, способных защищать и распространять ценности «свободного» мира. (С многочисленным поколением послевоенного бэби-бума связывались особые надежды.) Развитие в школах научного образования предполагало серьезное усиление инфраструктуры и оснащенности школьных лабораторий, производство большого количества демонстрационных материалов и фильмов, инструментов и расходных материалов, а также развитие соответствующей научной педагогики.
Химический набор для школьника, 1950-1960
Некоммерческая организация Science Service ежемесячно рассылала подписчикам познавательные комплекты Things of Science с 1940 до 1989 года.
В тематические комплекты входили естественные (полезные ископаемые, кости динозавров, семена…) и искусственные материалы (красители, нейлоновые нити, ткани…), а также брошюры, объяснявшие тему.
Одни комплекты были объяснительными, другие позволяли построить простейшие научные инструменты. Подробнее о темах см.: https://ecg.mit.edu/george/tos/
Инновации Эксплораториума
Одним из шагов в этом направлении стало создание центров науки и техники, большой вклад в развитие которых внес физик Фрэнк Оппенгеймер, участник Манхэттенского проекта, брат Роберта Оппенгеймера.
В период маккартизма с 1949 по 1957 годы из-за обвинений в причастности Коммунистической партии ему было запрещено преподавать и вести научную работу. В 1957 году ему разрешили преподавать в школе, а через два года позволили вернуться в университет. В это время он много работал над новыми педагогическими методами и в 1964 году выпустил растиражированную впоследствии «Библиотеку экспериментов» — сборник из сотни моделей классических научных экспериментов для самостоятельной работы любознательных студентов.
В 1969 году после посещения и изучения ряда европейских музеев науки, учтя их достоинства и недостатки, он основал в Сан-Франциско Эксплораториум, один из первых и наиболее влиятельных впоследствии центров науки и техники.
Фрэнк Оппенгеймер
Архивное фото Дворца искусств, первоначального здания Эксплораториума © Exploratorium, www.exploratorium.edu
Характерно, что спустя десятилетия после основания первое, что заявляет о себе на своем сайте Эксплораториум:
«Мы создали музей науки заново» (We Broke the Science Museum Mold).
Mold может передаваться и как «плесень», что недвусмысленно отсылает к архивам и архаичности музеев естественной истории. В центрах науки и техники как правило не было научных коллекций и архивов, они были целиком посвящены научной коммуникации с общественностью и продвижению науки. Это были места популяризации, а не исследования.
Появление центра науки и техники как культурной формы сыграло важную роль в развитии публичной репрезентации науки: наука и техника отделились от национальных и исторических музеев, а также ботанических садов, планетариев и других подобных институций.
Теперь они оказались в местах, специально созданных только для их репрезентации и популяризации (и развлечения), как правило без всяких научных задач, специфической музейной экспертизы и штата научных сотрудников. Они поменяли и свою архитектурную прописку: вместо тесных и слабо приспособленных зданий XVIII — начала XX веков, построенных по подобию церквей и дворцов, — бывшие промышленные цеха и современные просторные здания.
Вкупе с отсутствием зависимости от музейной коллекции, архива и внутренних научных исследований это позволило сосредоточиться на привлечении аудитории и работе с опытом посетителей (в этом центры открыто противопоставляли себя музеям), дало большую свободу в выборе и создании экспонатов и открыло новые экспозиционные стратегии.
Архивное фото Эксплораториума © Exploratorium, www.exploratorium.edu
Архивное фото Эксплораториума © Exploratorium, www.exploratorium.edu
Архивное фото Эксплораториума © Exploratorium, www.exploratorium.edu
Архивное фото Эксплораториума © Exploratorium, www.exploratorium.edu
Вот, например, выдержка из брошюры Центра науки Онтарио в Канаде времен его открытия в 1966 году [Cameron 1971, 12]:
«Составьте список всего, что вы знаете о публичных местах, особенно музеях: ничего не трогать, не возбуждаться, не фотографировать, не смеяться громко. Составили? Отлично. А теперь разорвите его на мелкие кусочки и выбросите».
Прежде всего, бурное развитие получили интерактивные экспонаты, использовавшиеся для иллюстрации абстрактных научных принципов и инженерных идей. Интерактивность мыслилась как инструмент демократизации и приближения науки к человеку через смягчение разрыва между ее эзотеричностью и опытом посетителей. Общей установкой было стремление связать научные идеи с повседневным опытом и в том числе через это вызвать эмоциональный отклик, вдохновить и заинтересовать.
Впоследствии музеи науки (музеи естественной истории, музеи науки и техники и т. д.) так или иначе ориентировались на центры науки и техники, ушедшие вперед в плане привлечения посетителей, и разница между их экспозициями, поначалу серьезная, постепенно уменьшалась.
Эксплораториум сегодня © Exploratorium, www.exploratorium.edu
Эксплораториум сегодня © Exploratorium, www.exploratorium.edu
Эксплораториум сегодня © Exploratorium, www.exploratorium.edu
Лес хромосом. Музей наук Принца Филиппа, Валенсия. © Javier Yaya Tur
Экспозиция «Научные штормы». Музей науки и промышленности, Чикаго. © The Museum of Science and Industry, Chicago
Музей Космо Кайша (Cosmo Caixa), Барселона
Экспозиция «Жизнь во Вселенной», Музей науки NEMO, Амстердам
Public Understanding of Science
В учредительном документе Эксплораториума Оппенгеймер сформулировал установку, которая впоследствии была усвоена многими музеями и центрами науки и техники (цит. по [Macdonald 1998, 13]):
«Многим людям наука непонятна, а техника их пугает <…> надо сформировать понимание того, что роль науки и техники глубоко укоренена в человеческих ценностях и устремлениях».
После холодной войны оформилось самостоятельное исследовательское и практическое поле «общественное понимание науки» (public understanding of science, public awareness of science), название которого вплоть до синонимии близко к «общественное одобрение науки». Журнал Public Understanding of Science был учрежден в Лондоне в 1992 году и является одним из наиболее цитируемых в категориях «Коммуникация» и «История и философия науки», согласно данным JCR
Обычно предполагается, что область формирования образа науки и ее общественного понимания принадлежит ученым. Так, начиная с 1995 года в Оксфорде и ряде других ведущих британских университетов была учреждена специальная профессура общественного понимания науки (Professorship for the Public Understanding of Science), на которую избирались в основном представители естественных наук и известные популяризаторы, в том числе биолог Ричард Докинз (его сменил математик Маркус дю Сотой), палеонтолог Ричард Форти, физики Брайан Кокс и Джим Аль-Халили.
Это выражение или близкие к нему, соединяясь с тезисом о трансформативном влиянии науки, встречаются в формулировках задач и миссий многих музеев и центров науки и техники. Вот некоторые примеры с официальных сайтов:
«Поскольку наука и техника все больше формируют наши жизни, Музей науки стремится подготовить и вдохновить каждого использовать науку на общее благо» (Бостонский музей науки, США).
«Наука и техника позволяют нам лучше понять мир и самих себя, развиться как человеческим существам и подготовить мир к будущему. NEMO и в детях, и во взрослых пробуждает любопытство к силе, важности и особой природе науки и техники» (Музей науки NEMO, Амстердам, Нидерланды).
«Стимулировать и вдохновлять тайское общество учитывать и понимать важность науки для развития страны, взращивать в молодом поколении положительное отношение к использованию науки и техники» (Национальный научный музей Таиланда).
«Открыть каждый ум для чудес науки и техники, помогая нам лучше понять самих себя и мира вокруг нас» (Центр науки Adventure, Нэшвилл, США).
«Помогать менять жизни при помощи силы науки и научного образования» (Музей науки и промышленности, Чикаго, США).
«Музей стремится сделать науку популярной при помощи высоких технологий» (Шанхайский музей науки и техники, Китай).
«Мы вдохновляем детей и молодых людей Наукой, Техникой, Инженерией, Математикой (STEM), экологическим просвещением в области чистой воды и карьерными возможностями, играя жизненно важную роль в подготовке кадров» (Центр науки и техники Discovery World, Милуоки, США).
«Мы в Techniquest хотим растить научный капитал людей. Взращивая научный капитал в индивидах и сообществах Уэльса, мы сможем помочь людям увидеть в науке важную часть их жизни и культуры — часть, которая в будущем поможет расширить возможности и получить доступ к работе в области STEM» (Центр науки и техники Techniquest, Кардифф, Великобритания).
STEM / STEAM
Последние два примера показательны. Задача по продвижению в обществе позитивного образа науки часто дополняется задачей по привлечению школьников и выпускников школ в научно-технические профессии. Она часто формулируется в рамках распространенной в мире (в том числе в России) образовательной концепции STEM, объединяющей ряд дисциплин и профессиональных областей (естественные науки, технические науки, инженерное дело и математика).
STEM была предложена в 2001 году Национальным научным фондом в США прежде всего как инструмент решения проблемы нехватки соответствующих специалистов на рынке труда и усиления позиций страны в научно-технологической конкуренции. К ее особенностям можно отнести преподавание этих дисциплин не по отдельности, а в сцепке, и с начальной школы, а также акцент на применении знаний и навыков для решения конкретных практических проблем (problem-solving). Кроме того, предполагается уделять особое внимание привлечению социальных групп, недостаточно представленных в этой области, например, девушек и этнических меньшинств.
STEM не ограничивается школами и университетами: ее сеть охватывает также, государство, бизнес, НКО и, конечно, музеи и центры науки и техники в англоязычных странах. В США STEM получила в наследство многие элементы сети научной педагогики, созданной в рамках холодной войны, в том числе милитаристскую риторику: в публичном поле STEM иногда представляется как оружие в «новой Холодной войне» [Johnson 2019].
В музеях концепция STEM интегрирована в программы мероприятий, мастерские, лаборатории, постоянные и временные экспозиции. (Иногда отдельным примечанием к экспонату или экспозоне указывается релевантность задачам STEM.)
Так, основанная в 1973 году Ассоциация центров науки и техники (ASTC) прямо заявляет о своей приверженности этой модели и активно использует сопряженные с ней образовательные подходы и проблематику в координации деятельности своих членов (более 500 музеев и центров науки и техники, аквариумов, планетариев, зоопарков, ботанических садов и других научных институций в США и более чем 50 странах мира).
Декларируемые ориентиры этой модели — креативность, критическое мышление, инновации, технологии и дизайн для решения проблем человечества. Хорошим мотто для нее может служить название масштабной STEM-кампании (около $4.5 млрд), инициированной администрацией Барака Обамы в 2009 году: Educate to Innovate.
Поскольку «инновационная деятельность» помимо технической подкованности требует воображения, нестандартного и широкого мышления и навыков дизайна, в последнее десятилетие этот подход дополняется искусством, дизайном и гуманитарными науками (Arts) до STEAM.
Искусство в нем играет служебную роль: способствовать развитию всех этих способностей и навыков, необходимых для применения знаний в решении проблем. Это обусловливает особую роль музеев и центров в STEM/STEAM-проекте благодаря их специализации на работе с нетривиальными и эффектными визуальными и интерактивными решениями, а также давнему сотрудничеству с искусством и современными художниками (в формате художественных интервенций и в особенности в форме science art) [Segarra et al. 2018; Feldman 2015].
Вот два примера интеграции STEM в работу институций разных поколений и типов.
Во-первых, основанный в 1986 году Techniquest в Кардиффе, самый старый интерактивный центр науки в Великобритании. Его девиз — «Мы хотим сделать науку доступной для всех в Уэльсе», а миссия — «Умножая научный капитал индивидов и сообществ Уэльса, мы можем помочь большему числу людей увидеть в науке важную часть их жизни и культуры, что поможет в будущем расширить их возможности и доступ к работе в области STEM». Заявляемые Techniquest «ценности и важные качества личности»: - поддержка эмпауэрмента, - инновационность, - инклюзивность, - коллаборативность, - способность вдохновлять, - совершенство.
Во-вторых, Бостонский музей науки в Новой Англии, основанный в 1830 году, а с 2003 года работающий в рамках STEM. Декларируемый им идеал — «мир, в котором наука принадлежит каждому на благо всех», а цель — «вдохновлять каждого на любовь к науке на всю жизнь». Эти примеры свидетельствуют о том, что в музеях и центрах науки и техники на уровне задач образ актуальной науки в основном позитивен: науку и технику следует принимать, меняя свою жизнь и мир вокруг.
Какими средствами создается такой образ и каким содержанием он наполняется? Об этом см. лонгрид Трехмерные учебники: почему музеи науки мало что говорят о самой науке?
Библиография
Дастон 2020 — Дастон Л. История науки и история знания // Логос. 2020. № 1. С. 63–90.
Портер 2020 — Портер Т. Как наука стала технической // Логос. 2020. № 1. С. 91–130.
Cameron 1971 — Cameron D. F. The Museum, a Temple or the Forum // Curator: The Museum Journal. 1971. Vol. 14. № 1. P. 11–24.
Feldman 2015 — Feldman A. STEAM vs STEM: Why we need to put the arts into STEM education // Slate.com. June 16, 2015. URL: https:// slate.com/technology/2015/06/steam-vs-stem-why-we-need-to-putthe-arts-into-stem-education.html (дата обращения: 20.08.2021).
Gordin 2012 — Gordin M. The Pseudoscience Wars: Immanuel Velikovsky and the Birth of the Modern Fringe. Chicago: University of Chicago Press, 2012.
Haraway 1984–1985 — Haraway D. Teddy Bear Patriarchy: Taxidermy in the Garden of Eden, New York City, 1908–1936 // Social Text. Winter, 1984–1985. № 11. P. 20–64.
Hamlin 2016 — Hamlin C. The Pedagogical Roots of the History of Science: Revisiting the Vision of James Bryant Conant // Isis. 2016. Vol. 107. P. 282–308.
Johnson 2019 — Johnson M. STEM programs key to winning ‘the new Cold War’, 13.02.2019 // NonDoc. URL: https://nondoc.com/2019/02/13/stemprograms-help-win-new-cold-war/ (дата обращения: 20.08.2021).
Macdonald 1998 — Macdonald S. Exhibitions of Power and Powers of Exhibition. An Introduction to the Politics of Display // The Politics of Display. Museums, Science, Culture / Macdonald S. (Ed.). New York: Routledge, 1998.
Segarra et al. 2018 — Segarra V. A., Natalizio B., Falkenberg C. V., Pulford S., Holmes R. M. STEAM: Using the Arts to Train Well-Rounded and Creative Scientists // Journal of microbiology & biology education. 2018. Vol. 19 (1). 19.1.53



