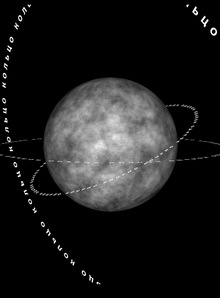Что такое искусство?

Борис Гройс
«Искусство есть деятельность, направленная на поиск и исследование новых способов жизни» — Борис Гройс
Гройс подчёркивает экспериментальный, поисковый характер художественной деятельности. Искусство предстаёт своего рода лабораторией альтернативных форм жизни, площадкой для тестирования новых способов существования и самовыражения. Это резонирует с концепцией «искусства как опыта» Джона Дьюи и разнообразными практиками художественного акционизма XX века.
Искусство как опыт
В основе подхода Дьюи лежит идея «опыта» (experience) как фундаментальной категории человеческого существования. Для него опыт — это не просто пассивное восприятие или регистрация внешних данных, но активное, творческое взаимодействие организма со средой, в ходе которого оба они трансформируются и обогащаются. Опыт есть целостный, динамический процесс, в котором переплетаются познание и действие, чувство и мысль, индивидуальное и социальное.
Искусство, согласно Дьюи, следует понимать не как совокупность отдельных артефактов, но как особую разновидность или «качество» опыта — эстетический опыт. Произведение искусства — это не просто физическая вещь, но событие, происходящее «между» объектом и воспринимающим его субъектом. Эстетический опыт характеризуется особой интенсивностью, цельностью, завершённостью, выразительной гармонией частей и способностью генерировать новые смыслы и ценности.
Это неспортивно
Если спорт нацелен на достижение чётко определённого результата по заданным правилам, то искусство, напротив, ставит под вопрос сами правила игры. Художник заранее проиграл во всех состязаниях, чтобы получить свободу играть в игру по его собственным правилам, где он не сорневнуется ни с кем — иными словами, состязается с пустотой, небытием и смертью — и, конечно, выигрывает на том простом основании, что жив и существует.
В этом контексте уместно вспомнить Homo Ludens Йохана Хёйзинги — произведение, исследующее игру как фундаментальную форму человеческой деятельности, лежащую в основе культуры и искусства. Рискнём предположить, что художник — это своего рода «сверх-игрок», трансгрессивно раздвигающий границы возможного в поле эстетического.
Дмитрий Шагин. День тельняшки (2023)
С другой стороны, можно усмотреть в приведённых тезисах отголоски делёзианского различения «мажоритарного» и «миноритарного». Спорт, с его жёсткими правилами и количественными критериями успеха, оказывается уделом «большинства». Искусство же всегда занимает «миноритарную» позицию — не столько из-за малочисленности, сколько из-за ускользающей, неуловимой природы художественного процесса.
При этом важно не впасть в романтизацию страдающего, проигравшего художника. Его «поражение» — это скорее стратегический ход, трикстерский финт. Художник — это тот, кто сопротивляется необходимости побеждать средствами абсурда, деконструкции, трансгрессии.
Ситуационизм
Ситуационисты в своём кругу
Ситуационизм стал одним из самых ярких и влиятельных направлений неомарксистской мысли и леворадикальной практики 1950–70-х годов. Его теоретики и активисты стремились расширить поле революционной борьбы за пределы традиционных сфер политики и экономики, перенеся её в область культуры, языка, повседневной жизни.
Ситуационизм вырос из леттризма — авангардного течения, экспериментировавшего с разложением и реконструкцией поэтической речи. Но если леттристы фокусировались на революции в языке, то ситуационисты пошли дальше, замахнувшись на тотальное переустройство человеческого существования.
Ключевой для ситуационистов была идея принципиально коллективного конструирования ситуаций — уникальных моментов жизни, намеренно созданных для провокации подлинного опыта. По словам лидера движения Ги Дебора, «ситуация — это совместная реализация единства времени и места». В этом стремлении «жить иначе» чувствуется влияние сюрреализма и Батаевской концепции «суверенности». Но если сюрреалисты делали ставку на высвобождение бессознательного, то ситуационисты апеллировали к рациональному проекту революционного преобразования реальности.
Ги Дебор
Речь шла о новых формах совместности, о конструировании общих пространств игры, творчества, неотчужденного взаимодействия.
Отсюда — острый интерес ситуационистов к феномену города. Урбанистическая среда представлялась им идеальным полигоном для экспериментов с повседневностью, для взламывания рутинных сценариев поведения. Тактики dérive (дрейфа) и détournement (отклонения, перекодирования) были нацелены на освоение и присвоение городских территорий, на высвобождение их латентных возможностей.
В более широком плане, ситуационистский проект был направлен против «общества спектакля» — системы отношений, в которой непосредственный опыт вытесняется пассивным потреблением образов и знаков. Дебор и его соратники стремились сорвать это шоу, вовлекая людей в активное производство собственной жизни.
Идеи ситуационистов отозвались эхом и в современной цифровой культуре — от монтажных техник разного рода мемов и пранков до локативных медиа и практик «городского хактивизма».
Карта и калька
В книге «Тысяче плато» Делёз и Гваттари противопоставляют карту (carte) и кальку (calque) как два принципиально разных способа организации мышления и действия. Калька — это снимок, копия, воспроизводящая уже существующие структуры. Карта же — это эксперимент, открытие новых связей и траекторий.
Калькирование осуществляется в рамках заданных кодов и моделей, тогда как картографирование — это процесс непрерывного изобретения и трансформации. Калька стремится к точности и однозначности, карта — к множественности интерпретаций. Калька нацелена на результат, карта — на процесс.
В этом свете ситуационистские практики dérive и détournement можно рассматривать как своего рода «картографические машины». Дрейфуя по городу, заново монтируя элементы культурных текстов, ситуационисты не просто копировали существующую реальность, но активно переписывали её, создавали новые связи и смыслы.
Ги Дебор. Ситуационистская карта Парижа
Ситуационистские карты
Любопытно, что Ги Дебор был буквально одержим картами — он создавал психогеографические карты Парижа, коллажированные из фрагментов обычных карт. Эти артефакты можно считать наглядной иллюстрацией делезианского картографического метода — не калькирование территории, а изобретение новых пространств опыта.
Психогеографическая карта Константина Долженко
Цифровое картографирование
Попробуем навести эту оптику на современные цифровые реалии. Конечно, большинство мобильных приложений (особенно в сфере социальных медиа и электронной коммерции) по сути занимаются калькированием пользовательских данных и поведения. Их цель — как можно более точное воспроизведение паттернов для таргетирования рекламы и стимуляции потребления.
Но можно ли вообразить альтернативу? Цифровые продукты, которые поощряли бы картографирование в делёзианском смысле — то есть креативное освоение информационных пространств, производство новых связей и смыслов, ускользание от предзаданных сценариев?
Transborder Immigrant Tool
Такие проекты, кстати, уже есть, и давно. Например, приложение Transborder Immigrant Tool, разработанное Electronic Disturbance Theater 2.0 / b.a.n.g. lab в 2007–2011 гг., использовало GPS для помощи мигрантам в навигации через границу США и Мексики, но одновременно предлагает им стихи и размышления, предлагая информацию о выживании во время опасного путешествия и создавая новый аффективный опыт пересечения территорий.
Лозунги ситуационистов
Лозунги, которые ситуационисты распространяли в форме надписей на стенах, плакатов и листовок, прекрасно передают дух ситуационистского бунта — дерзкого, ироничного, нацеленного на революцию повседневности. Давайте попробуем «распаковать» некоторые из них.
«Под мостовой — пляж»
(Sous les pavés, la plage)
Пожалуй, самый известный слоган Мая 1968 года. Он отсылает к практике парижских протестующих, которые разбирали брусчатку мостовых для строительства баррикад и обнаружили под ней песок. Но это ещё и мощная метафора: под поверхностью рутинной, «замощённой» повседневности скрывается пространство свободы, игры, наслаждения. Нужно лишь «вскрыть» его через революционное действие.
«Красота — на улицах»
(La beauté est dans la rue)
Ещё один призыв к освоению городского пространства, к перенесению творческой активности из музеев и галерей в гущу повседневной жизни. Для ситуационистов эстетика была неотделима от политики: акт украшения улиц граффити или афишами, изменения городской среды через dérive и détournement был способом подрыва буржуазного «общества спектакля».
«Нам не рады в нашем квартале?»
(On ne nous aime dans pas notre quartier?)
Ироничная констатация и одновременно вызов. Ситуационисты позиционировали себя как изгоев и маргиналов, противостоящих «нормальному» порядку вещей. Быть нежеланными гостями в собственном квартале — значит занимать позицию критической дистанции, противостоять процессам джентрификации и нормализации городской жизни.
«Никогда не работай»
(Ne travaillez jamais)
Возможно, наиболее радикальный и провокативный из ситуационистских слоганов. Это отказ не просто от наёмного труда, но от работы как таковой — как принудительной, отчуждённой, несвободной активности. Для ситуационистов «никогда не работать» означало не безделье, а свободную творческую игру, неотчуждаемую деятельность по конструированию собственной жизни.
Цифровой ситуационизм
Если попытаться экстраполировать эти идеи на современность, на контекст цифрового урбанизма и дизайна взаимодействий, то можно сформулировать такие провокативные тезисы:
1. Под интерфейсом — реальность. Цифровые технологии должны не скрывать, а обнажать подлинный жизненный опыт. 2. Красота — в интерфейсах. Тут важно, что эстетика цифровых продуктов — это не скевоморфизм, не флэт, не полупрозрачные плашки и не градиенты: она проявляется в красоте человеческих взаимодействий и творческого самовыражения. 3. Будь чужаком в своём приложении. Цифровой продукт должен не закрепощать пользователя в уютном пузыре фильтров, а провоцировать на исследование, на выход за пределы зоны комфорта. 4. Никогда не юзай. Вместо пассивного «использования» цифровых сервисов — активное соучастие в их создании, присвоение, хакинг.
Угон
Термин détournement можно перевести как «отклонение», «перенаправление», «присвоение», «угон». По сути, это субверсивная практика заимствования и рекомбинации элементов существующих культурных текстов (от медиа-образов до архитектурных пространств) с целью производства новых, критических смыслов.
Теоретик ситуационизма Ги Дебор определял détournement как «интегрирование настоящих или прошлых художественных произведений в более совершенную конструкцию среды». То есть, détournement — это не просто пародия или сатира, но творческое преобразование наличного культурного материала, подрыв его исходного смысла и создание нового контекста восприятия.
Классические примеры détournement — это ситуационистские комиксы, в которых спич-бабблы с оригинальным текстом заменялись революционными слоганами и цитатами из теоретиков марксизма. Или знаменитые граффити Мая 1968 года, превращавшие рекламные постеры в политические манифесты через добавление остроумных лозунгов и рисунков.
Но détournement не исчерпывается сферой искусства и пропаганды. Для ситуационистов это была стратегия революционного преобразования повседневности, освоения и перекодировки городских пространств. Практика dérive, психогеографического «дрейфа» по городу, о котором речь пойдёт ниже, была по сути формой détournement — присвоением улиц и кварталов через нефункциональное, игровое блуждание.
Важно отметить, что détournement — это не просто индивидуальный креативный акт, но способ производства новой коллективности. Через совместное «отклонение» привычных культурных кодов и поведенческих паттернов, ситуационисты стремились создать условия для появления новых форм общности и солидарности.
Если взглянуть на концепт détournement из перспективы сегодняшнего дня, то можно заметить любопытные параллели с некоторыми феноменами цифровой культуры. Мемы, ремиксы, мэшапы — всё это по сути современные формы détournement, творческого присвоения и рекомбинации элементов массовой культуры.
Тактические медиа
Речь идёт о медиа-интервенциях, нацеленных на подрыв доминирующих нарративов и создание альтернативных информационных пространств. Это тоже своего рода détournement, хакерское искусство политического монтажа.
Отличный пример «тактических медиа» — это проект Barbie Liberation Organization (BLO), осуществленный группой художников и активистов из Сан-Франциско в 1993 году.
Участники BLO скупили в магазинах несколько сотен кукол Барби и солдатиков G.I. Joe, а затем поменяли их звуковые чипы местами. В результате модифицированные Барби произносили фразы вроде «Vengeance is mine!» и «Dead men tell no lies!», а G.I. Joe говорили «I love shopping!» и «Will we ever have enough clothes?». После этого «хакнутые» игрушки были подброшены обратно на полки магазинов.
Когда ничего не подозревающие родители стали покупать эти куклы своим детям, разразился небольшой медиа-скандал. Несколько семей обратились с жалобами на производителя — компанию Mattel. BLO разослала в ведущие СМИ пресс-релиз, в котором объяснила свою акцию как протест против гендерных стереотипов, навязываемых индустрией детских игрушек. История получила национальную огласку, спровоцировав публичные дебаты о сексизме и социальной ответственности корпораций.
Этот кейс демонстрирует несколько ключевых принципов «тактических медиа»:
1. Использование доступных и повседневных технологий (в данном случае — электронных игрушек) для создания политического высказывания и социального комментария. 2. Остроумное перекодирование привычных культурных символов и нарративов (здесь — трансформация гендерных клише, ассоциируемых с Барби и G.I. Joe). 3. Провокативное вторжение в пространство обыденного — будь то магазинные полки или домашняя обстановка — с целью разрушения автоматизма восприятия и стимулирования критической рефлексии. 4. Умелая работа с медиа и информационными поводами, позволяющая относительно скромной интервенции получить широкий резонанс и огласку. 5. Игровая, трикстерская эстетика, балансирующая между серьезностью политического жеста и легкостью поп-культурного розыгрыша.
BLO, таким образом, представляет собой классический образец «культурного джемминга» (cultural jamming) — творческого вмешательства в доминирующие коды медиа-ландшафта с целью их ироничного переосмысления и идеологической критики. Подобная практика «партизанской семиотики» разрушает ауру брендов и прерывает гладкое функционирование «общества спектакля», высвобождая пространство для альтернативных смыслов и публичных дискуссий.
Другой пример «тактических медиа» — партизанские стикеры некоей анонимной группы, маскирующиеся под официальные объявления Московского метро.
Цифровой détournement
Но, пожалуй, наиболее интересный вызов — применить стратегию détournement к дизайну цифровых продуктов и сервисов. Можно ли вообразить интерфейсы и алгоритмы, которые не просто воспроизводят привычные паттерны взаимодействия, но творчески их искажают, открывая пространство для новых форм совместности и самовыражения?
Это непростой вопрос, требующий переосмысления многих конвенций UI/UX-дизайна. Но мне кажется, что броские, даже агрессивные жесты détournement могут здесь служить продуктивной провокацией. Как минимум — заставить нас взглянуть на цифровые среды как на пространство борьбы, креативного освоения, производства иной повседневности.
Какие аналогичные акции можно было бы провести сегодня, используя интерфейсы соцсетей, алгоритмы рекомендаций, инфраструктуры городского интернета вещей? Как адаптировать логику культурного джемминга к эпохе пост-правды и дипфейков? Какой могла бы быть «партизанская семиотика» платформенного капитализма и Big Data?
Можно попробовать разработать собственные проекты «тактических медиа» — от классического billboard hijacking до провокативных AR/VR-интервенций и рекламных «эксплойтов». Попробуем набросать несколько концептов.
1. «Анти-лента». Представим себе приложение социальной сети, которое вместо бесконечной персонализированной ленты контента предлагает пользователю случайный набор постов, картинок, ссылок, никак не связанных с его интересами и поведением. Своего рода «информационный дрейф», провоцирующий на исследование неизведанных территорий инфосферы. Цель — проколоть «пузырь фильтров», алгоритмическое замыкание пользователя в узком кругу привычных паттернов.
2. «Детурнеман рекламы». Баннерная реклама — бич мобильных приложений. Но что если дать пользователю инструменты для ее творческого «отклонения»? Представим приложение, которое позволяет редактировать рекламные баннеры, заменять их текст и изображения, превращать в мини-артворки или политические месседжи. Получившиеся «субвертисменты» можно делить с другими пользователями, устраивать соревнования на самый остроумный détournement. Цель — превратить пассивное потребление рекламы в активный творческий жест.
3. «Коллаборативный стрит-арт». Мобильное приложение, которое позволяет создавать цифровые граффити и размещать их в дополненной реальности на стенах зданий. Любой пользователь может не только видеть работы других, но и модифицировать их, дорисовывать, комбинировать. Весь город становится пространством коллективного творчества, постоянного переписывания городского визуального текста. Цель — размыть границу между искусством и повседневностью, создать новое ощущение городской общности.
4. «Ситуационистский навигатор». Обычные карты и навигаторы оптимизируют маршрут, стремятся провести нас максимально быстро и эффективно. Но что если создать альтернативу, которая направляла бы пользователя непредсказуемыми, случайными путями? Приложение, которое строит маршрут через незнакомые районы, предлагает неожиданные точки интереса, провоцирует на психогеографические открытия. Цель — превратить рутинное перемещение по городу в творческое освоение пространства.
5. «Радикальный таймер». Приложение-таймер, которое вместо минут и секунд отсчитывает время в ситуационистских лозунгах и цитатах. «Еще 15 минут отчужденного труда!», «Пора устроить дрейф!», «Вы уже 30 минут не создавали ситуаций!». Цель — внедрить в рутину повседневных темпоральных паттернов моменты критической рефлексии, напоминания о возможности иной жизни.
Конечно, эти идеи — лишь спекулятивные наброски; их практическая реализация потребовала бы серьезной концептуальной и технической работы.
Но мне кажется важным сам жест радикального переосмысления привычных паттернов мобильного дизайна. Сама попытка вообразить приложения не как гладкие, дружелюбные к пользователю сервисы, а как инструменты творческого беспокойства, провокации, изобретения новых форм городской жизни.
Психогеография
«Дрейф — техника быстрого перемещения сквозь разнообразные среды. Дрейфы содержат в себе игровое и конструктивное поведения, а также знание психогеографических эффектов и потому отличаются от общепринятых понятий путешествия или прогулки. В период дрейфа одна или несколько личностей на определенный период времени прекращают все отношения, бросают работу и прочую деятельность, теряют стимулы для активного существования. В это время субъект любуется окружающей местностью и наслаждается случайными встречами». — Ги Дебор. Теория дрейфа (1956)
Одна из ключевых психогеографических практик — это dérive, «дрейф». Это экспериментальная техника перемещения по городу, преднамеренное блуждание, позволяющее отказаться от привычных маршрутов и мотиваций и открыться новому опыту пространства.
Как подчеркивает Дебор, дрейф — это не просто случайная прогулка, но стратегия исследования «психогеографических очертаний» города, тех незримых потоков и завихрений, которые структурируют урбанистическую территорию. Через практику дрейфа ситуационисты стремились картографировать зоны притяжения и отталкивания, разрывы и переходы в ткани городской повседневности.
Светоноша
Светофор 60, твои скрины засушены и храню, прошлогодний новоябрь. Морякрь 59-58 листвяной отстрел с печки брякрь. Заслёзливый рь прошлого года мемориальные дрейфы по Зюзино. Зюзинский Кремль 57-56 — спецприёмник номер один. Условия дрейфа (Олег) поворачивать на перекрёстке. Слепо-глухо-отчаявшийся 55. Колюще-режущий 54. Красный пылает — нам поцелуй, красные 53-52, пиксели жарких слов. Светофор цветёт припадочной сакурой, — и направо. Зелёный — налево и молча, до первой таблички на жругрианском, 23. Вцеплялись ртами одна в одного, пока светофор осыпался, неоябрь. Ошпаривали красным сигналом себя под пальто, 17. Направо, направо, налево, дрейф как и год назад, держи за ворот. Пока светофор не разлучит нас, запуганный попугайчик, 9. С ядовитой проволокой наш мальчик играет в картонные шашки. Шашка, шагай. Светофор и твои будущие рождественские цвета, 3, 2. Спецприёмник номер 1, направо, направо, налево. Многоногий яналег делает шаг навпростець, напрямик. — Янина Вишневская
Деривьё и фланёр
На первый взгляд, фланёрство и ситуационистский дрейф могут показаться похожими практиками — и то и другое предполагает неспешное, созерцательное перемещение по городскому пространству. Но между ними есть ряд концептуальных и политических различий, которые важно артикулировать.
Фланёр
Фланёр (flâneur) — это фигура, возникшая в контексте парижской жизни XIX века и теоретически осмысленная в работах Шарля Бодлера и Вальтера Беньямина. Фланёр — это праздный буржуа, который бродит по улицам и пассажам, наслаждаясь спектаклем городской жизни.
Для фланёра город — это своего рода театр, панорама, объект эстетического созерцания. Он дистанцирован от толпы, сохраняет позицию отстраненного наблюдателя. Его блуждания — это своего рода интеллектуальная игра, способ коллекционирования впечатлений и курьёзов.
Деривьё
Ситуационистский дрейф, напротив, мыслился как радикальная практика, направленная на преодоление отчуждения и пассивности буржуазного субъекта. Для ситуационистов блуждание по городу — это не эстетическая прогулка, а стратегия активного, творческого освоения пространства.
Если фланёр наслаждается спектаклем города, то ситуационист стремится разрушить этот спектакль, обнажить его иллюзорный характер. Через практику дрейфа он пытается картографировать зоны притяжения и отторжения, разрывы и переходы в ткани повседневности — те психогеографические токи, которые ускользают от поверхностного взгляда фланёра.
Кроме того, если фланёрство — это индивидуальная практика, то дрейф, как уже подчёркивалось, мыслился ситуационистами как коллективное действие, как часть более широкого революционного проекта. Через совместное блуждание, через конструирование «ситуаций» они стремились создать новые формы общности и солидарности, преодолеть атомизацию и пассивность современного общества.
Министерство [не]смешных походок
Чтобы яснее артикулировать различия между разными модусами освоения городского пространства, можно ввести некую «типологию ходьбы».
1. Прагматическая ходьба — это, пожалуй, наиболее привычный и распространенный тип перемещения в городе. Мы идем куда-то с определённой целью — на работу, за покупками, на встречу. Наш маршрут и темп определяются внешней необходимостью, логикой функциональности и эффективности. В этом режиме город предстаёт как пространство задач и обязательств, сеть утилитарных связей. 2. Дискурсивная ходьба подразумевает элемент социальности, обмена, рефлексии. Гуляя и разговаривая, мы не просто перемещаемся из пункта А в пункт Б, но обживаем и наделяем значениями городскую среду, которая становится пространством интерсубъективного взаимодействия, производства дискурса — будь то дружеская беседа, философский диалог или обмен сплетнями. Город раскрывается как сцена социальной драматургии, машина повествований и коммуникаций. 3. Концептуальная ходьба радикализирует момент рефлексивности и экспериментальности, отказываясь от инструментальных и даже социальных мотивировок. Это ходьба ради самой ходьбы, перемещение как способ реализации определённой идеи, тестирования гипотезы, производства нового опыта.
Фланёрство, как мы уже отмечали, совмещает в себе черты дискурсивной и концептуальной ходьбы. С одной стороны, фланёр — это праздный наблюдатель, которого интересует социальная панорама городской жизни, калейдоскоп лиц и разговоров. Его траектория определяется логикой зрелища и случайных встреч, а не функциональной необходимостью.
С другой стороны, фланёрство — это не просто прогулка, но интеллектуальная позиция, особый способ восприятия и рефлексии. Фланёр культивирует определенную отстранённость, маргинальность, иронический взгляд на городскую суету. Его блуждания — это своего рода концептуальный жест, утверждение новой субъектности.
Таким образом, фланёрство располагается где-то на плоскости, образуемой дискурсивной и концептуальной осями нашей типологии. Но при этом оно сохраняет и некоторые «прагматические» черты — например, ориентацию на ключевые городские «достопримечательности» (пассажи, бульвары, кафе), инкорпорированность в потребительскую культуру и экономику зрелища.
Ситуационистский дрейф, напротив, представляет собой радикализацию концептуального полюса. Это уже не просто прогулка, но революционная практика, эксперимент по преобразованию повседневной жизни. Дрейф отказывается от логики функциональности и спектакулярности, стремится к производству новых пространств и ситуаций.
Если траектория фланёра всё ещё вписана в доминирующую городскую географию (хотя и позволяет бросить на неё иронический взгляд), то дрейф активно подрывает и реорганизует эту географию. Он исследует «психогеографические» токи города, зоны притяжения и отталкивания, разрывы в ткани консенсусной реальности.
При этом дрейф не чужд и некоторым «дискурсивным» моментам — например, элементам коллективности, обмена, игровой социальности. Но эта коммуникация носит уже не столько репрезентативный, сколько перформативный характер — это производство новых отношений и интенсивностей, а не просто циркуляция мнений и репрезентаций.
То есть, если фланёрство еще частично укоренено в буржуазной публичной сфере (хотя и вносит в неё элемент игры и провокации), то дрейф радикально порывает с этой сферой, утверждая автономию коллективного действия и желания. Это уже не просто новый взгляд на город, но практика его активного переизобретения.
В эпоху цифровых медиа эти режимы ходьбы приобретают новые измерения и модуляции. Прагматические перемещения все чаще опосредуются навигационными приложениями и сервисами доставки. Дискурсивные прогулки дополняются слоями геолоцированного контента, потоками постов и селфи. А концептуальные эксперименты используют возможности дополненной реальности и алгоритмических методов для производства новых пространственных нарративов и аффектов.
«Скульптуры прогулки» и «трансурбанистические экспедиции»
«Скульптуры прогулки» Ричарда Лонга и «трансурбанистические» экспедиции группы Сталкер — два ярких примера художественных практик, радикально переосмысляющих само понятие ходьбы и её роль в освоении пространства.
Ричард Лонг. Линия, сделанная ходьбой (1967)
Ричард Лонг — британский художник, один из пионеров ленд-арта. Начиная с 1960-х годов, он создает свои знаменитые «скульптуры прогулки» — минималистские интервенции в ландшафт, возникающие в результате длительных пеших путешествий.
Самая известная работа Лонга — «Линия, сделанная ходьбой» (A Line Made by Walking, 1967) — представляет собой прямую линию, протоптанную художником в траве на одном из полей Уилтшира. Это простой, но радикальный жест, обнажающий сам процесс «записи» человеческого присутствия в ландшафте.
В других своих работах Лонг использует найденные в ходе прогулок материалы — камни, ветки, грязь — для создания минималистских скульптурных форм и пространственных маркировок. Эти интервенции носят сознательно эфемерный, нематериальный характер — со временем они стираются, растворяются в окружающей среде.
Для Лонга ходьба — это не просто способ перемещения или созерцания пейзажа, но форма художественного мышления и производства. Прогулка становится медиумом, «кистью и холстом», средством прямого взаимодействия тела и ландшафта. А возникающие в результате «скульптуры» — это своего рода материальные следы, отпечатки этого процессуального опыта.
«Сталкер» — это коллектив художников, архитекторов и активистов, возникший в Риме в середине 1990-х годов (конечно же, их название отсылает к одноименному фильму Андрея Тарковского).
Практика «Сталкера» — это «трансурбанистические экспедиции», коллективные блуждания по периферийным, пустынным, заброшенным территориям города. Эти зоны — промзоны, свалки, стройплощадки, руины — группа называет «актуальными территориями» (actual territories), подчеркивая их роль как «белых пятен», разрывов в привычной городской географии. Ходьба становится инструментом производства новых пространственных отношений и коллективностей, способом перенастройки городской машины. А маргинальные зоны предстают не просто как объекты эстетического любопытства, но как потенциальные площадки для социального и политического эксперимента.
«Скульптуры прогулки» Лонга и экспедиции «Сталкера» — два примера радикального переосмысления ходьбы в современном художественном контексте. В обоих случаях ходьба становится медиумом прямого взаимодействия с пространством, средством его материальной и символической трансформации.
Переписать город
Задача «психогеографа» — заменить старые улицы города новыми. Дрейфуя по городу, надо переписать его, как устаревшую книгу. Надо освободить город от жесткой сетки значений, навязанной ему. — Сергей Кузнецов
Образ города как текста, подлежащего переписыванию и освобождению от навязанных значений — очень сильная и продуктивная метафора. Она подчеркивает семиотическое, дискурсивное измерение городского пространства — тот факт, что город «говорит» с нами, постоянно производит смыслы и сообщения.
Но проблема в том, что этот «текст» города зачастую оказывается жестко закодированным, подчиненным логике власти, спектакля, консьюмеризма. Улицы и здания превращаются в своего рода «иероглифы» господствующей идеологии, маркеры социальной и экономической стратификации.
Задача психогеографа, как остроумно формулирует Сергей Кузнецов — переписать этот текст, заменить старые улицы новыми. То есть, разрушить устоявшиеся семиотические коды, освободить городское пространство для новых значений и практик.
И ситуационистский дрейф становится ключевым инструментом этого переписывания. Через практику свободного, нецелевого блуждания, через тактики détournement и конструирование ситуаций, психогеограф активно вмешивается в городской текст, вводит в него новые, подрывные элементы.
Любопытно, что Кузнецов сравнивает этот процесс с работой писателя, обновляющего устаревший литературный язык. Действительно, в определенном смысле психогеограф — это своего рода «писатель» или даже «поэт» городского пространства, стремящийся открыть в нем новые измерения образности и выразительности.
Проект студентов Школы дизайна НИУ ВШЭ. Психотипофотогеографический дрейф (2014)
Высшая же цель заключается в том, чтобы избавиться от уз города — подобно тому, как Витгенштейн призывал освободиться от пут языка. — Максим Семеляк
Напомню, что в своих «Философских исследованиях» Витгенштейн критикует идею языка как замкнутой, автономной системы значений. Он показывает, как смысл языковых выражений всегда укоренен в практиках, в «формах жизни».
В этом смысле призыв «освободиться от пут языка» — это призыв отказаться от эссенциалистского понимания значения, признать фундаментальную «открытость» языка для новых употреблений и интерпретаций. И в каком-то смысле ситуационисты переносят этот подход на городское пространство — они борются с замкнутыми структурами значения, стремятся утвердить принципиальную «открытость» города для новых поэтик и политик.
Город на кушетке психоаналитика
Дрейф (включающий в себя ряд действий, жестов, прогулок, случайных событий) был по отношению к тотальности тем же, что психоанализ делает по отношению к языку. — Иван Щеглов. «Letter from Afar», Internationale Situationniste № 9
Иван Щеглов, соратник Дебора, проводит еще одну интересную параллель — между дрейфом и психоанализом. Если психоанализ стремится выявить «бессознательное» языка, его скрытые механизмы и структуры желания, то дрейф делает нечто подобное с городом. Через практики блуждания и dérive ситуационисты как бы выносят город «на кушетку аналитика», обнажают его латентные токи и влечения.
Это сравнение можно развить и дальше. Подобно тому как в ходе психоаналитического процесса субъект реконструирует и переописывает свою психическую реальность, так и в ходе дрейфа происходит своего рода «перенастройка» городского воображаемого и символического. Привычные маршруты и значения размываются, становятся объектом игры и экспериментации.
Pokémon GO
С игрой Pokémon GO в российскую действительность ворвалась гуманитарная география: проблемы «низового» переозначивания пространств, превращения не-мест (non-places) в места, прокладки новых траекторий дрейфа и пр. Теперь пространство Земли стало переописываться массовым и более привлекательным образом какими-то туземцами. — Михаил Куртов
Pokémon GO, вышедшая в 2016 году — это игра с дополненной реальностью для мобильных устройств. Игроки используют GPS для поиска и ловли виртуальных существ, покемонов, которые «появляются» в реальном мире на экране смартфона. Игра быстро приобрела огромную популярность и буквально вытолкнула миллионы людей на улицы городов в погоне за цифровой добычей.
И вот тут мы действительно видим любопытный эффект «переозначивания» городской среды. Привычные локации — парки, улицы, площади — внезапно наделяются новыми смыслами и функциями. Они становятся местами охоты, сражений, обмена между игроками. Обыденная городская география размечается новой сеткой точек и маршрутов, связанных с игровой механикой.
Куртов использует термин «не-места» (non-places), введенный французским антропологом Марком Оже. Этим термином Оже обозначает транзитные, анонимные пространства современности — аэропорты, супермаркеты, автострады. Эти зоны лишены устойчивой идентичности и истории, они взаимозаменяемы и функциональны.
И вот парадокс Pokémon GO в том, что игра как бы превращает «не-места» в «места». Безликая автобусная остановка становится ареной виртуальных сражений, парковка у торгового центра — точкой сбора редких покемонов. Анонимное, проходное пространство внезапно обретает новую глубину и насыщенность, пусть и виртуальную.
Более того, игра провоцирует новые практики перемещения и освоения города. По сути, охота за покемонами — это новая форма dérive, ситуационистского дрейфа. Игроки прокладывают альтернативные маршруты, руководствуясь логикой игры, а не утилитарными или привычными соображениями. Они блуждают, исследуют, заново открывают знакомые территории.
Конечно, можно спорить о том, насколько этот игровой дрейф является «подлинным» или эмансипирующим. Всё-таки траектории игроков определяются алгоритмами, заданными разработчиками, а сама игра глубоко инкорпорирована в коммерческие, потребительские практики (in-app покупки, партнерские локации и т. д.). Это уже не вполне «свободная игра», о которой грезили ситуационисты.
И все же сам факт массовой «геймификации» городского пространства, осуществленной Pokémon GO, кажется мне знаменательным и симптоматичным. Он высвечивает потенциал цифровых технологий как инструментов низового, партиципаторного «переозначивания» среды. Потенциал, который может быть присвоен и развит в самых разных, в том числе и более радикальных, направлениях.
Не-места и лиминальность
В отличие от «антропологических мест», укоренённых в конкретной культуре и социальной структуре, не-места производят и воспроизводят абстрактную, универсальную субъектность «пассажира», «клиента», «пользователя». Это пространства, где социальные связи редуцируются к формальным, контрактным отношениям, опосредованным деньгами и информацией.
Понятие лиминальности имеет несколько иное происхождение и охват. Оно восходит к антропологическим исследованиям ритуалов перехода (rites de passage), прежде всего к работам Арнольда ван Геннепа и Виктора Тёрнера.
В этом контексте лиминальность (от лат. limen — порог) обозначает промежуточную, пороговую фазу ритуального процесса, когда участники уже отделены от своего прежнего социального статуса, но еще не обрели нового. Это состояние «ни там, ни здесь», betwixt and between, характеризующееся амбивалентностью, неопределённостью, но также потенциальностью и креативностью.
Для Тёрнера лиминальность — это не только специфическая фаза ритуала, но и более общая модель трансформативного опыта, применимая к самым разным культурным и социальным феноменам. В лиминальных ситуациях привычные иерархии и структуры временно размываются или переворачиваются, открывая пространство для игры, эксперимента, переосмысления социальных ролей и норм.
В этом смысле лиминальные пространства — это зоны перехода и трансформации, места, где устоявшиеся идентичности и порядки ставятся под вопрос. Это могут быть физические локации (руины, стройплощадки, приграничные территории), но также ментальные и символические топосы (карнавал, перформанс, виртуальная реальность).
Таким образом, не-места и лиминальные пространства представляют собой как бы две различные модальности «аномальных» территорий современности. Не-места — это зоны транзита и циркуляции, производящие абстрактную, деиндивидуализированную субъективность. Лиминальные пространства — это зоны перехода и трансформации, чреватые дестабилизацией устоявшихся структур и идентичностей.
При этом между этими понятиями возможны продуктивные пересечения и наложения. Многие не-места (аэропорты, вокзалы) обладают чертами лиминальности, выступая как пространства «между» локальными порядками и идентичностями. А лиминальные зоны (трущобы, маргинальные районы) могут порождать формы анонимности и отчуждения, сходные с опытом не-мест.
Цифровые полости
Не в пустоте ли между «было» и «стало», между нажатием и результатом, кроется истинная суть Dasein im Internet (бытия-в-интернете)? — Олег Пащенко. Веб-форма как лиминальное пространство. Разговор с Пустотой
Ключевой для ситуационистов была идея конструирования ситуаций — создания новых «моментов жизни», прерывающих автоматизм повседневного существования и открывающих пространство для игры, творчества, самопреобразования. В каком-то смысле, «телеологическая авария» цифровой системы — это тоже своего рода «сконструированная ситуация», только в негативном ключе. Сбой в работе интерфейса, неожиданная «пустота» в потоке цифровых взаимодействий — это моменты, которые выбивают нас из привычной колеи, заставляют острее ощутить условность и хрупкость нашего онлайн-бытия.
Конечно, в отличие от ситуационистских «моментов жизни», эти «аварии» не являются продуктом сознательного творческого усилия. Но в структурном отношении они выполняют сходную функцию — вносят разрыв в автоматизм цифровых рутин, создают «трещину» в гладкой поверхности «дружественных» интерфейсов.
В образе юзера, блуждающего по веб-страницам и иногда застревающего в «пустотах» интерфейса, можно усмотреть своего рода цифровой аналог дрейфа. Это тоже движение без четкой цели, траектория, подверженная случайностям и неопределенностям онлайн-среды. Как и в ситуационистском дрейфе, здесь само перемещение, сам процесс навигации и взаимодействия становится источником особого лиминального опыта.
Наконец, хайдеггерианская идея «разрыва» повседневности через сбой инструмента очень созвучна ситуационистской критике «общества спектакля». Для Ги Дебора и его соратников спектакль — это не просто совокупность медиаобразов, но фундаментальный принцип современного общества, который подчиняет живой опыт логике товарного фетишизма и пассивного потребления.
Мне кажется, эта оптика побуждает нас задуматься о том, как сознательно работать с моментами «сбоя» и «пустоты», как встраивать элементы непредсказуемости и лиминальности в проектирование интерфейсов. Возможно ли создавать «ситуационистские» цифровые продукты, провоцирующие юзера на творческий дрейф? Как совместить идеи дизайна переживаний (UX) с «конструированием ситуаций» и тактическим détournement?
Ingress
Ingress — это мобильная игра с дополненной реальностью (AR), разработанная Niantic Labs (позже ставшей создателем Pokémon GO). Игроки делятся на две фракции и борются за контроль над «порталами» — виртуальными точками, привязанными к реальным локациям (памятникам, зданиям и т. д.). Цель игры — захватывать территории, создавая связи между порталами.
Как и Pokémon GO, Ingress накладывает игровой слой на реальную городскую географию, побуждая игроков исследовать физическое пространство в поисках виртуальных объектов. Но если Pokémon GO делает акцент на индивидуальном коллекционировании покемонов, то Ingress больше фокусируется на командной игре, соперничестве фракций и стратегическом перекраивании территории.
В этом смысле Ingress даже ближе к ситуационистской идее психогеографии и тактического переписывания городского текста. Игроки не просто перемещаются между точками, но активно переопределяют символическую и аффективную «окраску» мест, вовлекаются в своего рода «геопоэтическое» соперничество. Виртуальная карта городской территории становится динамическим палимпсестом, состоящим из наслаивающихся и перекрывающих друг друга разметок и маршрутов.
Более того, командный аспект игры добавляет элемент социальности и потенциал коллективного действия, что тоже созвучно ситуационистской установке. Опыт игры в Ingress — это не только индивидуальный дрейф, но и опыт солидарности, совместного «производства пространства» (если вспомнить известное выражение Анри Лефевра). В какой-то момент виртуальная разметка территории начинает восприниматься как более реальная, чем официальная городская топография, а случайные встречи с другими игроками приобретают характер почти мистического узнавания единомышленников в толпе.
Randonautica
Randonautica — это мобильное приложение, которое использует генераторы случайных чисел и геолокационные данные, чтобы направлять пользователей к неожиданным локациям в их окрестностях. Идея в том, чтобы поощрять людей исследовать незнакомые места, отклоняться от привычных маршрутов и быть открытыми к непредсказуемым открытиям и синхронизмам.
Механика работы приложения такова: пользователь задает радиус поиска и «энтропийный уровень» (степень случайности выбора локации), а затем отправляется в точку, сгенерированную алгоритмом. Приложение также предлагает пользователям задавать «интенцию» перед началом путешествия — своего рода ментальную установку или вопрос, ответ на который они надеются найти в процессе блуждания.
Randonautica явно резонирует с идеями ситуационистского дрейфа и психогеографии. Как и в классическом dérive, здесь акцент делается на свободном, не детерминированном утилитарными целями перемещении в пространстве. Городская среда предстает как поле потенциальных открытий и неожиданных встреч, которые могут случиться, если отказаться от привычных паттернов передвижения и восприятия.
В то же время Randonautica добавляет к этой ситуационистской установке несколько новых измерений. Во-первых, здесь ключевую роль играет элемент случайности, генерируемый алгоритмом. В отличие от классического дрейфа, маршрут пользователя определяется не только его собственными импульсами и встречами, но и непредсказуемой логикой геолокационного сервиса. Приложение становится своего рода «генератором серендипности», цифровым оракулом, направляющим наше внимание и движение.
Во-вторых, интересен акцент на «интенции» и «ментальной установке» пользователя. Здесь психогеография пересекается с практиками медитации, визуализации и «мягкого фокуса» внимания. Блуждание по городу становится не только способом альтернативного картирования пространства, но и методом самоисследования, поиска ответов на экзистенциальные или личные вопросы. Алгоритм как будто обещает привести нас не просто к новым местам, а к новому пониманию себя и мира.
Любопытно поразмышлять над Randonautica и в контексте нашей дискуссии о лиминальности цифрового опыта. С одной стороны, использование приложения создает своего рода «управляемую лиминальность» — опыт непредсказуемости и дезориентации, который, тем не менее, структурирован и обрамлен игровой механикой. Мы имеем дело с «безопасным приключением», где радикальный потенциал ситуационистского дрейфа приручен и геймифицирован.
С другой стороны, практика «рандонавтики» все же сохраняет элемент настоящего риска и неопределенности. В отличие от игр с дополненной реальностью вроде Pokémon GO, здесь нет четкого разделения на игровое и неигровое пространство. Направляясь в случайно выбранную точку, пользователь не знает, с чем он столкнется — c мусорной кучей, стройплощадкой, случайным собеседником или потенциально опасной ситуацией. Лиминальность здесь — не просто визуальный эффект или нарративный прием, а реальное условие опыта.
Ещё четыре кейса
Drift — мобильное приложение, разработанное канадским художником Джастином Ланглуа. Оно использует GPS и генеративные алгоритмы, чтобы создавать случайные маршруты прогулок внутри заданного радиуса. По сути, это попытка перенести ситуационистскую практику дрейфа в цифровой контекст, совместить психогеографию с логикой геолокационных сервисов. Любопытный пример «алгоритмизации» дрейфа и потенциально интересный объект для критического разбора.
Derive App — мобильное приложение, разработанное в 2018 году группой канадских и итальянских художников, дизайнеров и программистов (Babak Fakhamzadeh, Eduardo Cachucho, Gilles Deschaud и Andrea Antonini).
Вот как работает его основной функционал:
1. Пользователь выбирает временной интервал (от 15 минут до 3 часов) и тип местности (парк, исторический центр, спальный район и т. д.). 2. Приложение генерирует серию случайных инструкций для прогулки: «Идите на север 300 метров», «Поверните направо и продолжайте движение, пока не увидите что-то синее», «Сделайте фото чего-то, что выглядит одиноким», «Найдите стрит-арт» и т. п. 3. Пользователь следует этим инструкциям, документируя свой маршрут с помощью геолокации, фотографий и заметок. 4. После завершения прогулки приложение создает виртуальную «карту дрейфа», которой можно поделиться с другими пользователями.
Subtlemob — серия партиципаторных перформансов, организованных арт-группой Circumstance. Участники получают инструкции и роли через наушники, создавая таким образом распределенный и частично импровизационный «спектакль» в публичном пространстве. Интересный пример использования мобильных медиа для конструирования «ситуаций» и коллективного переписывания социального сценария города.
Экспериментальная компьютерная игра Inside, разработанная Playdead Studios. Игра переосмысляет игровую механику классических квестов в духе лиминальности и экзистенциальной неопределенности. Главный герой блуждает по сюрреалистическим локациям, решая абсурдные загадки и сталкиваясь с непредсказуемыми событиями.
Каждый из этих кейсов по-своему исследует тему лиминальности, психогеографии и тактического «обживания» цифровых и физических пространств. Некоторые из них напрямую отсылают к ситуационистским концептам и практикам (дрейф, détournement), другие делают это более опосредованно. Но все они так или иначе ставят вопрос о новых модальностях опыта и агентности, возникающих на границе между виртуальным и реальным, алгоритмическим и случайным, индивидуальным и коллективным.
Психогеографические приложения студентов Школы дизайна НИУ ВШЭ
Sound Vandalz
Сергей Астафуров
Многопользовательское приложение для городских вандалов: звуковые сэмплы привязываются к геометкам.
По сути, это попытка переизобрести граффити в эпоху цифровых медиа, заменив баллончик с краской мобильным приложением, а статичные изображения на стенах — динамическими звуковыми ландшафтами, привязанными к конкретным геолокациям. Команды «художников-вандалов» получают возможность буквально «озвучивать» городское пространство, накладывая на него слой эмбиентных текстур, битов, мелодических фрагментов и т. д.
Кажется, Sound Vandalz прекрасно вписывается в парадигму того «ситуационистского» дизайна, о котором мы говорили ранее. Это попытка использовать цифровые инструменты не для калькирования и оптимизации поведения пользователей, а для создания открытых, гибких, провокативных «ситуаций», стимулирующих творческое освоение и партиципаторное переосмысление городской среды.
Это наша земля!
Артём Сергеев, Максим Зудилкин
Пользователь бродит по городу и, чем чаще он посещает какое-то место, тем выше его рейтинг, к этому месту привязанный. Рейтинг расходуется на голосование за то, чтобы переименовать это место каким-то народным топонимом. Чем чаще человек где-то бывает, тем больший вес имеет его голос. Все народные переименования видны внутри приложения.
По сути, это попытка создать альтернативную, «народную» систему городских топонимов, отражающую локальные знания, языковые привычки и ценности жителей, в противовес официальной номенклатуре улиц, площадей, районов и т. д. Пользователи приложения получают возможность не просто картировать свои перемещения по городу, но и активно участвовать в формировании его символического ландшафта.
1. Такой подход делает видимым и легитимирует тот слой неформальных, «низовых» топонимов, который обычно существует лишь в устной речи и коллективной памяти горожан. 2. Игровая механика с чекинами и рейтингами создает интригующий баланс между «меритократией» и «демократией» в процессе переименования. С одной стороны, вес голоса пользователя зависит от его реальной вовлеченности в жизнь конкретных локаций. С другой стороны, финальное решение остается за коллективным выбором сообщества. 3. Проект имплицитно проблематизирует политику официального нейминга в городе. «Народная топонимика» выступает здесь как форма символического сопротивления и тактического «перехвата» права на означивание пространства. 4. «Народная топонимика» может рассматриваться как один из инструментов «производства пространства» — низового переопределения материальной и символической организации города в интересах его жителей. Одновременно, сама игровая форма этого переопределения позволяет увидеть в нем пример «городской акупунктуры» — точечных, но потенциально резонансных интервенций в ткань повседневности.
connexion app
Влад Мд Голам, Нилуфер Мусаева
Пользователи составляют психогеографические описания не точек на карте, а связей между точками.
Ключевая идея — сместить фокус с отдельных локаций на те невидимые линии и векторы, которые прочерчивают наш опыт перемещения и восприятия города.
По сути, это попытка создать новый тип интерактивной психогеографической карты, где главными элементами будут не точки, а коннекции — со всем разнообразием их эмоциональных, смысловых, мнемонических измерений, персональных и коллективных маршрутов и нарративов.
1. Проект отчётливо созвучен с базовыми принципами ситуационистской психогеографии. Для Ги Дебора и его соратников город был не просто набором дискретных точек, но динамической сетью потоков, сил и интенсивностей. Практика дрейфа была нацелена именно на экспериментальное исследование этих «психогеографических склонов», зон перехода между различными «амбьянсами» или «атмосферами». 2. Связи не существуют как объективная данность, но каждый раз заново прочерчиваются, обживаются, переопределяются в ходе наших повседневных «хореографий». 3. Характер связи между двумя местами может варьироваться в зависимости от способа перемещения (пешком, на автомобиле, на велосипеде…), времени суток, погодных условий, попутчиков и т. д. Одна и та же пара локаций может порождать спектр различных, порой противоречивых психогеографических профилей.
4. Он позволяет зафиксировать процессуальную и темпоральную сторону городского опыта, которая обычно ускользает от картографирования. Ведь наше переживание города — это не набор разрозненных точек, а непрерывный поток перемещений, переходов, сопоставлений и ассоциаций. 5. Наконец, сам процесс может способствовать новым формам социального взаимодействия и солидарности между горожанами. Узнавая о личных маршрутах и ассоциациях друг друга, участники проекта как бы соприкасаются ментальными картами. Город предстает здесь как поле интерсубъективного резонанса смыслов и аффектов.
YARN
Елена Круцко
Сначала приложение просит отметить на карте города 5 самых травмирующих мест и 5 мест, с которыми связаны самые светлые воспоминания. Затем оно зовёт пользователя отправиться в эти места на прогулку. Когда он приходит туда, начинается беседа с ИИ-психотерапвтом. Чем длиннее беседа, тем сильнее распутывается клубок, который визуализируется на экране в виде чёрного сложного пятна. Конечная цель — распутать все клубки.
Елена Круцко предлагает по-настоящему уникальный и концептуально насыщенный проект, органично сочетающий идеи психогеографии, сторителлинга и цифровой психотерапии. YARN — это своего рода экзистенциальный навигатор.
В этом проекте меня подкупает несколько моментов:
1. Глубокое понимание диалектики города и субъективности. Наши травмы и триумфы, страхи и надежды всегда так или иначе спаяны с материальной и символической географией мест, где мы живем, работаем, любим. Прогулка по городу — это всегда также путешествие по закоулкам собственной души, по «маршрутам памяти». 2. Умный баланс между структурой и спонтанностью. С одной стороны, приложение задает четкий алгоритм действий: отметить ключевые места, отправиться туда, поговорить с ИИ-психотерапевтом. С другой стороны, содержание и длительность этих шагов всегда остается открытым, зависящим от свободной игры ассоциаций и эмоций пользователя. Это как раз тот тип игровой регламентации, который ценили ситуационисты. 3. Эффектная и точная визуальная метафора «распутывания клубка». Абстрактное пятно, постепенно разрушающееся в ходе прогулок и бесед — это сильный образ, отсылающий и к древнегреческому мифу об Ариадне, и к психоаналитической концепции «работы горя», и к восточным медитативным практикам.
4. Интригующая роль ИИ-собеседника. Это уже не просто цифровой ассистент или справочник, но своего рода «искусственный Другой». Любопытно подумать, как именно могла бы строиться эта беседа, какие реплики и техники слушания мог бы использовать алгоритм. Где здесь баланс между эмпатией и провокацией, директивностью и недирективностью? 5. Наконец, потенциал коллективного сторителлинга и «заботы о себе». Хотя YARN фокусируется на индивидуальном опыте, в перспективе он мог бы стать платформой для обмена личными «психогеографическими» нарративами между пользователями, для картографирования общих точек уязвимости и стабильности в городской ткани. Такая «социальная сеть исцеления» могла бы породить новые формы эмпатии и солидарности между горожанами.
Заключение
Ситуационистские идеи и практики дрейфа, détournement и конструирования ситуаций, теории не-мест и лиминальности, кейсы локативных медиа и экспериментальных компьютерных игр — все эти элементы складываются в ассамбляж, в центре которого находится фигура цифрового психогеографа — субъекта, активно экспериментирующего с новыми режимами производства пространства и самости.
Психогеография в эпоху геолокационных сервисов и алгоритмических платформ — это не просто экстраполяция ситуационистских техник на новый технологический ландшафт, но серия концептуальных и практических сдвигов. Дрейф становится одновременно более случайным и более структурированным. Détournement превращается в партизанскую семиотику хештегов и мемов. Конструирование ситуаций разворачивается в гибридных онлайн-оффлайн пространствах, на грани между игрой и серьезностью, эскапизмом и социальной критикой.
Примеры студенческих проектов демонстрируют, как принципы ситуационистской психогеографии могут быть творчески переосмыслены в контексте современных мобильных приложений. Мы видим здесь целый спектр увлекательных идей и решений — от звукового «вандализма» до партиципаторной топонимики, от интерактивных аффективных карт до терапевтических прогулок с ИИ-собеседником.
Каждый из этих проектов по-своему исследует потенциал цифровых медиа как инструментов освоения и переопределения городской среды — как на символическом, так и на материальном уровне. В то же время, они ставят критические вопросы о характере агентности и социальности в эпоху алгоритмически опосредованных взаимодействий. Способны ли мы сохранить право на город, на творческое производство пространства в условиях тотальной датификации? Какие формы солидарности и сопротивления возможны в зазорах и разрывах «умных городских интерфейсов»?
Эти вопросы, конечно, не имеют однозначного ответа. Но сам процесс их постановки через теоретические построения и проектные эксперименты кажется необходимым для критического осмысления, а может быть и переизобретения, наших отношений с городами и медиа. Психогеография в таком расширенном смысле предстает не просто как набор ситуативных техник, но как особый модус существования — внимательного к пространству и открытого к опыту.
Библиография
1. Debord G. Theory of the Derive // Situationist International Anthology. Berkeley: Bureau of Public Secrets, 2006. 2. Debord G. Society of the Spectacle. Detroit: Black & Red, 1977. 3. Chtcheglov I. Formulary for a New Urbanism // Situationist International Anthology. Berkeley: Bureau of Public Secrets, 2006. 4. Baudelaire C. The Painter of Modern Life and Other Essays. London: Phaidon, 1964. 5. Benjamin W. The Arcades Project. Harvard University Press, 2002. 6. Lefebvre H. The Production of Space. Oxford: Blackwell, 1991. 7. Augé M. Non-Places: Introduction to an Anthropology of Supermodernity. London: Verso, 1995. 8. Gennep A. The Rites of Passage. University of Chicago Press, 1961. 9. Turner V. The Ritual Process: Structure and Anti-Structure. Ithaca: Cornell University Press, 1969. 10. Heidegger M. Being and Time. New York: Harper, 1962.
11. Wittgenstein L. Philosophical Investigations. Oxford: Blackwell, 1953. 12. Deleuze G., Guattari F. A Thousand Plateaus. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1987. 13. Certeau M. The Practice of Everyday Life. Berkeley: University of California Press, 1984. 14. Tuters M., Varnelis K. Beyond Locative Media: Giving Shape to the Internet of Things // Leonardo. 2006. Vol. 39. № 4. 15. Andersen C. U., Pold S. B. The Metainterface: The Art of Platforms, Cities, and Clouds. Cambridge: MIT Press, 2018. 16. Hjorth L., Richardson I. Gaming in Social, Locative and Mobile Media. London: Palgrave Macmillan, 2014. 17. Flanagan M. Critical Play: Radical Game Design. Cambridge: MIT Press, 2013. 18. Sicart M. Play Matters. Cambridge: MIT Press, 2014. 19. Dyer-Witheford N., Peuter G. Games of Empire: Global Capitalism and Video Games. University of Minnesota Press, 2009. 20. Gordon E., Silva A. Net Locality: Why Location Matters in a Networked World. Oxford: Wiley-Blackwell, 2011.